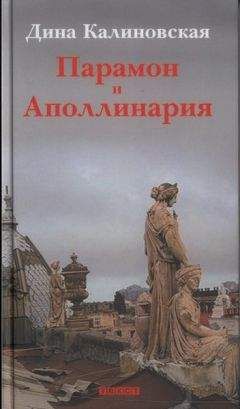— Ты женат, Гришенька?
— Женат, Манечка. Но других детей у нас с Нэнси нет.
«Казалось бы, — нервничала Мария Исааковна, — хороший ресторан…»
— О чем ты задумалась, Манечка?
— Я думаю, на кухне какая-то неприятность, так долго… Эти наши порядки…
— Чепуха, они должны как следует прожарить натуральный кусок мяса, они его жарят!
Гриша налил коньяк в хрустальные рюмочки.
— За нашу встречу, Марусинька!
— За нашу встречу, Гриша!
А на эстраде уже собирались оркестранты, народу за столиками прибавилось.
— Я очень рада тебе, Гришенька. Я ведь всегда знала, что мы с тобой встретимся. Что бы ни случилось, как бы плохо мне ни было, я утешала себя тем, что впереди у меня — наша встреча.
Оркестр заиграл, на эстраду вышла молоденькая девушка в коротком платье и запела «Каштаны, каштаны!..». Она, видимо, обожглась на солнце, видно, весь день пеклась на пляже. «Каштаны, каштаны».
— Как ты пережила войну, детка?
— Как все…
Он назвал ее деткой, — запело в ней, — да, она знала, что с его приездом жизнь вернется к началу. А замужество и измены мужа, война и эвакуация, похоронное извещение и долгое безмужье, и голод послевоенных лет, и потом— работа, работа, работа, пока дочка училась, работа с утра и допоздна, и отчуждение дочери, когда она стала большой, все было не с ней, не с Манечкой, а с Марией Исааковной, которую она хорошо знала, которая умела добросовестно работать, любила работать и верила, что трудности — это и есть жизнь, горе — тоже жизнь, а счастье — свежая постель после воскресной стирки. А Манечка однажды утром проводила Гришу на пароход и сегодня утром встретила его в аэропорту, и между тем утром и этим прошло очень немного дней, недаром он называет ее деткой… «Каштаны, каштаны!..»
— Что ты вспоминаешь, деточка?
А в зале уже танцевали. Ударник перед тем объявил новый номер.
— Блюз «Под тихим дождем».
Гриша опять налил в рюмки.
— Давай еще немножко выпьем, Манечка! Мария Исааковна заплакала.
— Манечка, деточка, о чем ты плачешь? Ну, скажи мне. Вдруг расплакалась, дитя!.. Ты плачешь, что не поехала со мной, да?
— Нет, Гришенька, я плачу о том, что ты не остался со мной, — ответила она, и сразу небесный нежный дождь их встречи ожесточился.
— Маруся, я ведь умолял тебя — поедем!
Еще пробегали по веткам неторопливые легкие капли, еще не гнулась под ливнем, а тянулась навстречу дождю счастливая трава и молчание птиц было молчанием покоя и радости.
— Но разве ты не видел, не понимал, что тебе остаться легче, чем мне уехать?
— Что значит — легче, Манечка?! Ты вспомни, что такое было! Банды, погромы, голод, тиф, холера!..
— Конечно, Гришенька, конечно… Для тебя банды, для тебя холера, а для меня варьете «Бомонд»!
— Ну, нет, Манечка, нет, мы говорим опасный разговор, не надо. Скажи мне лучше, про тех, кого я знаю. Когда умер дядя Исаак?
— Папу забили нагайками петлюровцы.
— А тетя?
— Мама, Гришенька, умерла во время эвакуации в теплушке, набитой людьми. Я похоронила ее в пустыне.
— О, Манечка!.. А твой муж? Кто он? Где он?
— Миша погиб на фронте. Он никогда не любил меня, Гришенька.
— Манечка, я до последней секунды думал, что ты все-таки прибежишь ко мне на палубу!
— А я, я до последней секунды верила, что ты, ты сбежишь ко мне на берег!..
И хлынуло. Ливнем и градом ударило по глазам, жизнь потеряла очертания, краски и запахи, и было не остановить тяжелую силу.
— О Гришенька!.. Тебе казалось, что ты умнее всех! Ты думал, что перехитрил судьбу, обвел вокруг пальца! И кто мог переубедить тебя? Ты прибыл в турецкой фесочке покрасоваться, вот и все, что ты понимал тогда! Покрасоваться перед нами ему хотелось!.. И как тебе пришло в голову! Как стукнуло в твою рыжую бессовестную башку — бросить нас в такое время, не разделить с нами наши страхи, нашу нищету, горе?.. Даже фесочки не потерять!.. О, какую ты мне сделал прививку!.. Всю жизнь я не могла ни на кого положиться, такую ты мне сделал прививку!..
— Марусинька, злая! Перед тем, чтобы окончательно уехать, я неделю прятался в соломе, меня потом бросили в колодец, и просто фокус, когда на голове осталась фесочка!..
— Ты разве думал, что моих сил может не хватить, чтобы дождаться тебя? Ты и сейчас приехал, чтобы покрасоваться американскими успехами! Что тебе — мы? Что тебе — наши понятия!
— Ты настрадалась только из-за упрямства! — крикнул Гриша, покраснел, как одни рыжие краснеют. — Только из-за тупого вашего фамильного упрямства!..
«Наконец-то…» — вдруг услышала внутри себя Мария Исааковна тишину. И вздохнула.
— Мы любим ходить пешком, Гришенька, — сказала она, — а ты предпочитаешь быстрый транспорт, этим все объясняется.
— Что объясняется?! Манечка, ты меня пугаешь, я не понимаю, что ты хочешь сказать!
— Он не понимает!.. Ну и что? Ты не понимаешь меня, я не понимаю, допустим, мою дочь, она — одного приличного интеллигентного человека… Понимать и любить — не фокус, не понимать и любить, все-таки любить — вот где правда.
Она уже не плакала, душа омылась слезами, как город ливнем. Напитанные пылью и сором, случайной городской трухой, темные потоки потащились к люкам, забивая решетки, с пришлепыванием и свинцовым бульканьем сползали вниз, чтобы, грохоча и толкаясь в запутанных трубах, обрушиться, наконец, в море и только через сто или тысячу лет, когда-нибудь, может быть, снова стать теплым дождем встречи. В зале все, кроме них, танцевали.
Как с неба свалилось долгожданное румяное мясо с жареной картошкой, с молодым пупырчатым огурцом.
— Ах, Гришенька! Давай кушать, давай пить, давай радоваться встрече.
Мария Исааковна выпила, улыбнулась не то Грише, не то барабанщику за его спиной, оглядела зал, танцующую публику. Все слегка покачнулось, поплыло, с морским дзеньканьем вызвонили сигнал пустые рюмки, и она отчалила на белом праздничном корабле одна, а Гриша остался на причале. Пьяненько, хитренько она помахала ему рукой.
Потом, после закрытия ресторана, они еще погуляли. Пошли на Карантинный спуск, в тот двор, куда Гриша явился в девятнадцатом году после первых своих скитаний и смятений, оборванный и голодный, с раненым плечом, испачканный кровью, но в феске. А хозяин квартиры не очень поверил в двоюродного братца. Фонтан во дворе был сух, как и некогда, в нем гнили прошлогодние листья дикого винограда, как и тогда. В том — их! — окне неярко светилось.
На бульваре они хотели посидеть, но здесь очевидным был неписаный закон: каждой паре — отдельная скамейка, и все уже было разобрано. Они бродили по ночному бульвару, над гаванью, откуда тогда уходили турецкие фелюги с солью и капитаны готовы были взять на борт обоих пассажиров. Они мало говорили о невозвратном. Говорили о здоровье — у Гриши, оказывается, диабет; о детях — у Гриши, оказывается, дочь тоже не замужем, но зато от сына уже большой внук… В третьем часу Мария Исааковна вернулась домой, в третьем часу!..
Саул Исаакович брился. Было очень рано, семь или даже меньше семи. Саул Исаакович и не подумал, что звонит Гриша, добрил выраставшую от воскресенья к воскресенью жиденькую полоску под ухом, вытер полотенцем остатки мыла, вытер свое сокровище, бирмингемскую бритву, удивился раннему гостю, пошел открывать. И увидел Гришу. Крючковатого, как сухой стручок, с лысой веснушчатой головой, смуглого, как картофель, старого, нездорового, незнакомого, но — Гришу.
Гриша увидел его и немножко растерялся, задрал брови.
«Что-то призрачно-кодымское, — наверное, подумал он, — что-то смутно знакомое, — наверное, подумал он. — Очевидно, это и есть Сулька!» — наверное, подумал он, и наверное, по-английски.
— Ты?..
— Кто же еще?..
Гриша неуверенно шагнул в прихожую, неуверенно осмотрелся в их коммунальном запустении, но узнал выставленный в коридор для подсобной службы тяжелый резной буфет из кодымского дома, изъеденную жучком развалину.
— О! Я его отлично помню!
Гриша подскочил к буфету, хлопнул его по дубовому боку, обрадовался, как родственнику, дернул ручку нижней дверцы:
— Здесь когда-то имелось варенье!
Там и сейчас стояли банки с вареньем.
Обнялись, хоть и неловко, но, благодаря буфету, сердечно. Вошли в комнату, сели за стол друг против друга.
— А я бы тебя даже на улице узнал с первого взгляда, — с упреком буркнул Саул Исаакович. — Можешь мне поверить! С возрастом вы все стали, как близнецы — и ты, и Моня, и Зюня.
Гриша вскочил, походил по комнате, оглядел фотографии на стенах, обстановку и вид из окна.
— Как ты поживаешь? — с нечаянным вызовом спросил Саул Исаакович.
— Старость! Какая это жизнь, Суля!
— Да, старость, ничего не поделаешь, Гриша. Гриша прищуренными глазами тянулся к фотографиям на стене.