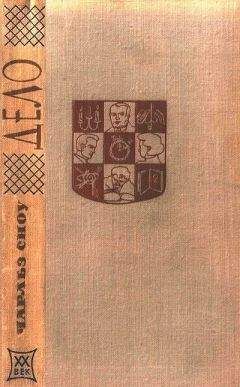Я верил ему. Я верил ему безусловно. Это говорил не беспечный человек. И не удачливый — трудно было бы ожидать услышать такие речи от старого Гэя. И отнюдь не самоуверенный. Нет, такая преданность была уделом только людей, подобных Найтингэйлу, поглощенных собой, но не чувствующих твердой почвы под ногами. На мгновение я задумался: а не относится ли это и к Говарду? Когда он бормотал на суде, что его остановила мысль о колледже, я считал, что он говорит это в замешательстве, и не придал его словам никакого значения. Может быть, я зря так скептически отнесся к нему, может быть, как раз в этом вопросе оба они сходились? Неужели когда Говард сказал, по каким соображениям он не возбудил дело против колледжа, — соображениям, в которых он и себе-то полностью не признавался, — неужели он говорил правду?
Что касается Найтингэйла, то он совершенно подавил меня силой своих чувств. Под напором их, не в состоянии дальше сохранять спокойствие стороннего наблюдателя, растерявшись, я утратил ясное представление о том, что он за человек и, тем более, что он способен совершить и чего нет. В этот момент я сам не мог бы сказать — верю я или нет в то, что он хладнокровно выдрал фотографию из тетради. Единственно, в чем я мог быть уверен, это в его неистовой, безграничной преданности своему колледжу. Вопрос, подозреваю ли я его или нет, отошел теперь на задний план; собственно, он вообще утратил всякий смысл. Но при всем этом я прекрасно понимал, что, попадись ему на глаза эта фотография, явись у него мысль, что она может как-то угрожать чести — в его понимании — колледжа, он, конечно, изъял бы ее без зазрения совести. И его нисколько не смутило бы, если бы ради этого нужно было принести в жертву Говарда, ибо он считал бы, что этого-то как раз и требует от него совесть.
Мне пришлось сделать над собой большое усилие, чтобы сохранить выдержку, чтобы не пойти на какие-нибудь уступки.
Я ответил:
— Никто и не собирается причинять колледжу ни малейшего вреда.
— Рад слышать это от вас.
— Никто, — продолжал я, тщательно подбирая слова, — не будет настаивать на подозрении, о котором вы говорите, дальше необходимого предела. Но…
— Да?
— Как я уже сказал, из этого положения есть только один разумный выход. Если старейшины найдут возможным изменить свое решение относительно Говарда, тогда никто не захочет создавать ненужные неприятности. Но если старейшины не найдут возможным это сделать, тогда, боюсь, остановить ход событий будет трудно.
Он ждал, что я скажу еще что-нибудь, но я замолчал. Зазвонил телефон. Я слышал, как он ответил привратнику, что долго не задержится. Затем взволнованно посмотрел на меня.
— Это все?
— Большего сказать сейчас я не могу.
— Вы хотите поговорить со своими… друзьями?
— Это ничего не изменит, — сказал я.
По его поведению можно было заключить, что он радостно возбужден, а никак не разочарован. Как будто он слышал только часть моего ответа — успокоительную часть. Как будто он не уяснил себе значения моих слов. Или, быть может, высказавшись откровенно, он все еще находился во власти охватившего его волнения? Весело, бодрым, чуть ли не дружеским тоном, он сказал, что должен идти, — жена ждет его в машине у ворот колледжа. Мы вместе спустились вниз и пересекли один за другим все дворы. Найтингэйл взглянул на небо, где начинали загораться первые звезды.
— Наконец-то какое-то подобие хорошей погоды!
Мы шли рядом, словно я никогда и не уезжал из колледжа, словно мы были если не друзьями, то, во всяком случае, хорошими знакомыми, которые лет двадцать проработали бок о бок и незаметно состарились вместе.
За главными воротами, возле тротуара, стояла машина с отворенной дверцей. Из машины выглянула миссис Найтингэйл.
— Хэлло! — сказала она. — Чем это вы там занимались, братцы?
— Да так, разговаривали кое о чем, — ответил Найтингэйл.
Она вылезла, чтобы пропустить Найтингэйла к рулю. Пока он усаживался, она нежно похлопала его по плечу, потом поболтала немного со мной. В жизни я не встречал менее застенчивой женщины. Она держалась так просто и непринужденно, что даже при заурядной внешности казалась по-своему очень привлекательной. Но в ту минуту, когда она спросила, чем мы занимались, и я увидел ее взгляд, обращенный к нему, в ее выпуклых глазах я прочел, во-первых, что она прекрасно знала, о чем был наш разговор, и, во-вторых, что, в то время как все вокруг только подозревали его, она не подозревала, а совершенно точно знала.
Убедился я, кроме того, и еще кое в чем. Она была непринужденна, она была добродушна, она хотела бы, чтобы окружающие ее люди были счастливы. Если бы Найтингэйл не совершал поступка, в котором его подозревали, она была бы довольна. Но знай она, что поступок этот он совершил, она непременно захотела бы обсуждать его, радовалась бы, что и она тут соучастница, и — потому что, при всей ее доброте, совести в ней не было ни на грош — по-дружески одобрила бы мужа.
Часть пятая. Весы правосудия
Глава XXXIII. Пустое место в тетради
Когда я входил в понедельник утром в профессорскую, слышались удары колокола; на ковре лежали солнечные пятна. Старейшины были уже в сборе и стояли у камина. Даже в приветствиях, которыми мы обменивались, чувствовалась принужденность. Но не та особая принужденность, с которой сталкиваешься, очутившись в компании приятелей, которые хотят скрыть от тебя дурные вести. Я не мог знать, о чем говорили они между собой накануне вечером или сегодня утром, но сразу же понял, что в их рядах произошел раскол.
Доуссон-Хилл появился не через ту дверь, которая вела во двор колледжа и которой воспользовался я, а через внутреннюю, соединяющую профессорскую с резиденцией ректора. Интересно, давно ли они уже совещаются, подумал я? Волосы Доуссон-Хилла блестели, от него пахло лосьоном для бритья.
— А, Люис! Доброе утро! — сказал он с сияющей равнодушной улыбкой.
Мы заняли свои места за столом. Кроуфорд привычными пальцами не торопясь набил трубку и раскурил ее. Он откинулся назад в кресле. Как всегда, лицо его было гладко, поза спокойна, и все же не успел он заговорить, как мне сразу же стало ясно, что на этот раз благодушие может в любой момент изменить ему.
— Я склоняюсь к мысли, — сказал он, — что заявление, сделанное одним из наших коллег, до известной степени осложняет положение. Я хочу просить вас приложить все усилия к тому, чтобы найти наиразумнейший выход из этого положения, не забывая, однако, при этом о своей ответственности перед судом.
Он пососал трубку.
— Эллиот, заявление это исходит от стороны, которую представляете вы. Может быть, вы возьмете инициативу в свои руки?
Я смотрел на Кроуфорда и чувствовал в то же время на себе пристальный взгляд Найтингэйла. Все это подготовлено заранее, думал я. Они предоставляют мне сделать первый ход. Я не знал, на что решиться, но тут справа от Кроуфорда раздался голос:
— Разрешите мне, ректор?
Кроуфорд всем корпусом повернулся к Уинслоу и посмотрел на него.
— Вы хотите высказаться сейчас? — спросил он.
— С вашего позволения! С вашего позволения!
Кроуфорд сделал мне знак, как будто хотел заставить меня замолчать. Уинслоу пригнул голову к столу и сделался похож на огромную взъерошенную птицу, высматривающую — чем бы поживиться, затем он поправил у ворота мантию и, так и не разгибаясь, обвел всех нас взглядом. Глаза у него были смелые, беззаботные, чуть ли не озорные.
— Всем вам известно, ректор, — сказал он, — что я говорю, как полнейший профан. Когда я слушаю, как умно рассуждают на весьма интересные темы все здесь присутствующие, меня слегка удивляет, до чего сам я мало осведомлен в таких вещах. Однако есть предел даже моей тупости. Мне кажется, что во время вчерашнего заседания — конечно, может быть, это самообольщение — мне удалось уловить в общих чертах смысл того, что хотел сказать нам Фрэнсис Гетлиф. Если я не окончательно заблуждаюсь, хотел он нам сказать нечто не совсем заурядное. Высказанное им веское мнение сводится, по-видимому, к тому, что обвинение против незадачливого Говарда было, говоря современным языком, «сфабриковано». И если допустить, что предположение его справедливо, это означает, что один из членов совета, один из представителей нашего выдающегося — и имеющего репутацию ученого — общества повинен, выражаясь с предельной мягкостью, в suppressio veri[35]. Хотя я, собственно, не знаю, почему бы не называть в подобных случаях вещи своими именами.
Я довольно долго раздумывал над всем этим, но я просто не вижу причин изобретать осложнения там, где логически никаких осложнений быть не должно. При всем желании, мне кажется невозможным притворяться, что Гетлиф хотел сказать совсем не это. И мне кажется a fortiori[36] невозможным, чтобы суд не сделал из этого соответствующих выводов. Но нет, я должен оговориться. Ничего нет невозможного ни для этого суда, ни для любого другого комитета нашего колледжа. Пожалуй, правильнее будет сказать, что это невозможно для меня. Конечно, я совсем незнаком с предметом, над которым работает Гетлиф. Но я всегда полагал, что человек он весьма достойный. Мне ни разу не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь сомневался в безупречности его моральных качеств. Пусть мое мнение мало значит, но я все же скажу, что всегда очень высоко ставил Гетлифа. Могу я говорить прямо, ректор?