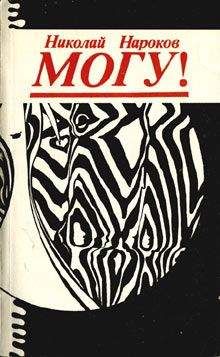— Нет, немного, только внизу.
— Ну, и что же? Что же? — затормошился Табурин. — Вы заметили грязь и… что же? Вы сказали об этом Софье Андреевне?
— Я не сказал, но она увидела, что я чищу эти брюки, и спросила меня.
— А вы? Ответили? Что?
— Ответил что-то… Не помню!
— А она? Что она?
— А она… Странно как-то! Она почему-то как будто рассердилась… Выхватила у меня брюки и сама стала их чистить! А потом набросилась на меня: «Это, говорит, совсем не грязь, а просто ты их запачкал чем-то!»
— Вот как! «Не грязь!» Но ведь вы видели, что это была присохшая грязь?
— Да, вроде как бы глина или земля… Вот я сейчас и думаю: может быть, она брала этот костюм, надевала и запачкала? Потому что я-то нигде не мог его запачкать мокрой землей.
— Не могли? Никак не могли? А она… Если, предположим, она шла по какой-нибудь садовой дорожке после дождя… Ах, да! — вдруг сообразил Табурин. — А ботинки? На ботинках не было грязи?
— А на ботинках, — стараясь вспомнить, поднял вверх глаза Миша, — на ботинках я грязи не видел, но когда надевал их, я…
— Когда? Тогда же?
— Да! Когда я синий костюм надеваю, я всегда их беру.
— И что же? Что же?
— А они почему-то оказались на других колодках!
— На каких других колодках?
— На деревянных, которые я с собой еще из Франции привез!.. Но я ими почти никогда не пользуюсь, они неудобные.
— Ну? Ну? И что же? — еле сдерживая себя, нетерпеливо подтолкнул его Табурин.
— И я, помню, тогда удивился: как это так я ботинки не на те колодки надел?
— Если не вы их надели, то не сами они на другие колодки перескочили! — на что-то намекая, сказал Табурин. — Но вы мне вот что скажите: ботинки-то эти были чистые? Или тоже в грязи?
— Нет, грязи на них не было, но… Видите ли, когда я ботинки на колодки надеваю и в шкаф ставлю, то я их всегда сначала чищу… Так меня мама научила! А в тот раз они оказались нечищеные, а какие-то тусклые и мутные. И я, помню, удивился: да неужели же я нечищеные ботинки в шкаф поставил?
— Мутные и тусклые? — вцепился Табурин. — Как будто в них по мокрой траве ходили? Да? А потом они на колодках высохли, а поэтому и тусклые?
— Да, может быть, и так…
— Колоссально! Колоссально! — не выдержал и стал бегать по комнате Табурин. — Все одно к одному подходит! Прочно!
Миша смотрел на него и пытался понять: почему все это так важно? Почему Табурин так возбужден? И почему он даже обрадовался тому, что на брюках были следы грязи, а ботинки оказались тусклыми? Он ничего не понимал и ни о чем не догадывался, но непонятное чувство подсказало ему, что все вопросы Табурина действительно, на самом деле очень значительны, нужны для чего-то и что от них зависит что-то очень большое. И при этом ему начало казаться, будто эта грязь на брюках как-то связана с тем, что Софья Андреевна так изменилась. Конечно, он ничего не мог связать, но не сомневался, что все сходится в одной точке, и эта точка — Табурин. «Как хорошо, что он позвал меня, спрашивает, а я отвечаю! И хорошо, что он чем-то доволен, даже рад!»
— Колоссально! Колоссально! — все еще бегал по комнате и не мог успокоиться Табурин. — Вся картинка складывается, все кусочки друг к другу подходят! Одно к другому! Одно к одному! Правда, Миша?
— Правда! — ничего не понимая, но довольный тем, что «все одно к одному», улыбнулся Миша.
— Ф-фу! — с шумом выдохнул из груди воздух Табурин и, словно подавленный всем тем, что ему сказал Миша, упал в кресло. — Я, конечно, и раньше подозревал что-нибудь в этом роде, но только подозревал! А теперь… Теперь все доказано! Ф-фу!.. — но погодите! — вдруг вспомнил он. — А когда же это было? Ведь это грандиозно важно знать — когда? Можете вспомнить? Мне нужно, чтобы точнее, чтобы совсем точно! Когда?
— Это было… Это было… — напряг свою память Миша. — Я не помню числа, но это было вскоре после похорон Георгия Васильевича. Я это наверное знаю, потому что подумал тогда: не на кладбище ли я попачкал брюки глиной? А потом уж сообразил, что на кладбище я был не в синем костюме.
— Не в синем? В другом? Это хорошо, что в другом!
— Почему хорошо?
— Потому что несомненно: синие брюки вы не на похоронах запачкали! Значит, их запачкали еще до похорон! Может быть, даже за неделю до того… А?
— Не знаю! — улыбнулся Миша виноватой улыбкой, словно извиняясь за то, что он этого не знает.
Табурин замолчал. Он сидел, стиснув пальцами колени, и так вцепился в свои мысли, что, казалось, забыл о Мише. Так прошло две-три минуты.
— Ну, вот! — подвел итог своим мыслям Табурин. — Значит, насчет брюк и ботинок мы кое-что выяснили. Значит, можно перейти к другому. Скажите мне и еще одно, Миша, тоже важное, колоссально важное!
Он посмотрел на Мишу так, что тот увидел: да, это тоже важное. И ответил искренним взглядом: спрашивайте, мол, я все вам скажу.
— Вот что… — немного замялся Табурин, не зная, какими словами задать свой вопрос… — Вот что… У вас дома все благополучно? То есть… — спохватился он. — Я хочу спросить: не происходит ли у вас дома в последнее время что-нибудь такое… этакое?
Вопрос был непонятный и даже нелепый, но Мише сразу же стало ясно, о чем спрашивает Табурин. Он поднял глаза, и у него приостановилось дыхание. «Неужели он говорит о том, о чем я сам хотел сказать ему? — мелькнуло в нем. — Разве он знает? Откуда он знает?»
— Что… происходит? — не веря своей догадке, переспросил он.
— Ну… Я, конечно, не о том спрашиваю, не было ли у вас пожара и не испортился ли водопровод? Я про другое спрашиваю, я, так сказать, про психологическое спрашиваю. Психологическое-то у вас в порядке? Ничего особенного ни в ком не замечали?
Табурин не знал ничего, и свой вопрос он задал на авось. Еще тогда, когда он обдумывал свой разговор с Мишей, он смутно чуял, что такой вопрос может иметь и смысл, и значение, а поэтому может многое дать. «Ну, а если и промахнусь, так что ж из того? Не беда! Промахнусь и — промахнусь, вот и все!»
Но по тому, как Миша смутился, как отвел глаза и явно взволновался, он увидел, что вопрос попал в какую-то цель, которой он и сам еще не знал.
И насторожился.
— Я… Я… — залепетал Миша.
Оборвал и замолчал. Табурин подождал несколько секунд. Он видел, что Миша замолчал не оттого, что ему нечего сказать, а оттого, что ему трудно и, может быть, даже непосильно ответить. И ему стало жалко Мишу хорошей, человеческой жалостью. «Эх ты, бедняга! По лицу твоему вижу, что у вас в доме такое делается, что и сказать нельзя!»
Он сел на диван рядом с Мишей и с дружеской лаской обнял его за плечи. И этой ласки Миша не выдержал: тотчас же прижался, схватил Табурина за руку и стал изо всех сил сжимать ее. В горле у него защекотало, и он проглотил слезы: так невыносимо стыдно было ему плакать. Он вздрагивал и не замечал, что вздрагивает. А Табурин поглаживал его по плечу и ждал.
— Я, может быть… — неуверенно и мягко сказал он. — Я, может быть, нечаянно спросил о таком, о чем спрашивать нельзя, но… но ты уж прости меня, Миша! — неожиданно перешел он «на ты». — Все ведь вокруг нас такое путанное, что я легко мог ошибиться и сделать тебе больно… Ты уж прости меня, если так!
— Если бы вы знали! — не выдержал Миша и нервным поворотом повернулся к Табурину. — Если бы вы знали, какая она стала! Какая она теперь!
— Софья Андреевна? — сразу догадался Табурин.
— Да! Она… Ведь она…
И опять оборвал. Оборвал потому, что испугался: разве можно говорить об этом? Разве можно говорить об этом даже Табурину?
Табурин не знал, «какой» стала Софья Андреевна и почему Миша испуганно смешался, когда заговорил о ней. Но сразу же понял, что «здесь что-то есть»: неожиданное и большое.
— Что же? — изменившимся голосом коротко спросил он.
Миша не отвечал. Табурин понимал, что не надо повторять вопрос, и не повторил, а только сильнее сжал Мишины плечи.
— Да, да! Да, да! — тихо сказал он. — Да, да! Молчи, милый! Трудно говорить? И не надо — молчи!
Он видел, какой мелкой дрожью задрожали у Миши губы и как он сделал судорожный глоток. Он не смотрел на Табурина и явно отводил от него глаза, прятал их в себя. Боялся, что если взглянет, то не выдержит и разрыдается.
— Тяжело? — все так же тихо спросил Табурин, и его голос был дружеский, сердечный и участливый. — Ты хочешь, чтобы я тебе помог?
— Хочу! — тотчас же вырвалось у Миши. — Хочу! Вы можете! Вы… Помогите!
— Я помогу! — очень уверенно пообещал Табурин, не зная, что именно обещает он. — Мы с тобой теперь будем вместе, и ты на меня положись. Я, брат… И у меня в жизни тоже всякое бывало!..
— Она страшная! — не выдержал и заговорил Миша. — Мне с нею страшно! У нее что-то… Я не знаю, что у нее, но она… она… Может быть, она сходит с ума? Почему она стала так бояться? Почему она так много пьет теперь? Почему у ней дергаются глаза, и она сама дергается?