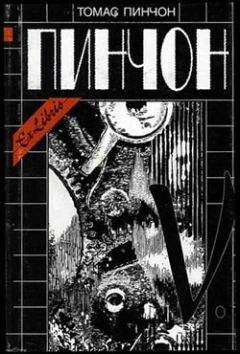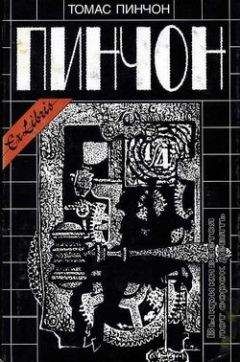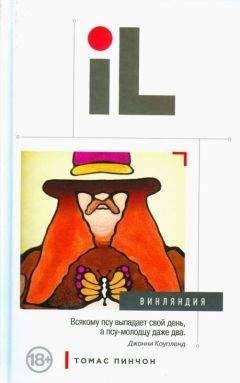Став гражданским шахтмейстером, получающим жалованье от правительства, он был вынужден, кроме всего прочего, отказаться и от этой роскоши – возможности смотреть ка них как на людей. Это распространялось даже на его сожительниц, которых у него было несколько – одни для работы по дому, другие для удовольствия, – отчего домашняя жизнь приобрела массовость. Только высшие чины могли иметь наложниц в своей исключительной собственности. Младшие офицеры, сержанты и рядовые, как он сам, брали женщин из общего «корыта» – обнесенного колючей проволокой загона возле казармы для холостых офицеров.
Трудно сказать, которым из этих женщин жилось лучше в смысле земных благ – куртизанкам за колючей проволокой или работягам, ночевавшим на громадной площадке за колючей живой изгородью у самого берега. Приходилось рассчитывать в основном на женский труд: по вполне понятным причинам мужчин катастрофически не хватало. Как оказалось, женщины вполне годились для выполнения многих работ. Они могли впрячься в тяжелые повозки, на которых вывозили наносы, поднятые землечерпалкой со дна гавани, или перетаскивать рельсы для железной дороги, которую прокладывали через пустыню Намиб в Клтмансхуп. Это название естественно напомнило ему о тех славных днях, когда он конвоировал туда чернокожих. Часто, стоя под растворенным в тумане солнцем, он грезил, вспоминая колодцы, доверху наполненные трупами негров, в чьих ушах, ноздрях и ртах копошились мухи и личинки, сверкая, будто бриллианты, зеленым, белым, черным, переливчатым цветом; костры из человеческих тел, взметавшие языки пламени чуть ли не до Южного Креста; хрупкую ломкость костей, податливость телесных тканей, внезапную тяжесть мертвых тел, даже детских. Но здесь ничего подобного быть не могло: рабочая сила была организована, приучена работать слаженно, и надо было надзирать не за скованными цепью туземцами, а за двойной колонной женщин, несущих закрепленные на шпалах рельсы; если одна из негритянок падала, то это означало лишь незначительное увеличение нагрузки на остальных, а не полную остановку и сумятицу, как было в случае с конвоированием пленных. Нечто подобное, насколько он помнил, случилось лишь однажды; возможно, это произошло потому, что всю предыдущую неделю было особенно холодно и сыро, из-за чего у многих женщин началось воспаление суставов, – в тот день у него самого болела шея, и он с трудом повернулся, чтобы посмотреть, что с фяслось: внезапно раздался дикий вопль, и, обернувшись, он увидел, что одна негритянка споткнулась и упала, а за ней повалились и все остальные. Сердце у него затрепетало, ветер с моря вдруг повеял приятной прохладой; кусочек далекого прошлого предстал перед ним, словно в просвете тумана. Он подошел к ней, убедился, что упавший рельс придавил ей ногу; выволок женщину из-под рельса, не удосужившись хотя бы приподнять его, скатил ее с насыпи и оставил умирать.
Этот случай немного успокоил его, на время развеял тоску, которая постоянно мучила его на этом побережье.
Но если уделом тех, кто жил за оградой из колючих кустарников, был изнурительный физический труд, то жившие за колючей проволокой не меньше страдали от трудов сексуальных. Некоторые военные приехали в Африку с довольно странными представлениями о сексе. Один сержант, занимавший слишком незначительное положение в армейской иерархии, чтобы заполучить мальчика (а мальчиков вечно не хватало), развлекался как мог с девочками, у которых еще не начали формироваться груди; он наголо брил им головы и велел ходить голышом в одних только скукоженных армейских крагах. Другой чудак заставлял свою партнершу лежать неподвижно, словно труп, и за любые проявления возбуждения, непроизвольные вздохи и шевеления наказывал ее элегантным шамбоком с украшенным самоцветами кнутовищем, которое он заказал в Берлине. Так что если бы негритянки и могли выбирать свою участь, то им было бы нелегко сделать выбор между колючими кустарниками и проволокой.
Сам он мог бы быть счастлив в этой новой гражданской жизни, мог бы сделать карьеру в сфере строительства, если бы не одна из его сожительниц, девушка-гереро по имени Сара. Она обострила его чувство неудовлетворенности; возможно, даже стала одной из причин, почему он в конечном счете все бросил и отправился в глубь страны в надежде хоть как-то вернуть роскошь и изобилие, которые (как он боялся) исчезли вместе с фон Тротой.
Впервые он увидел ее в миле от берега, на краю недостроенного мола из темных гладких камней, которые женщины таскали вручную и потом медленно и мучительно укладывали в каменный отросток, враставший в море. В тот день небо было укутано серым покрывалом тумана, и с самого утра над горизонтом с западной стороны висела черная туча. Первое, что он увидел, были ее глаза, в белках которых отражалось тихое волнение моря, затем спину, испещренную старыми шрамами от ударов кнутом. В тот момент он был уверен, что им движет исключительно похоть, повинуясь которой он подошел к ней, знаком велел бросить поднятый камень, нацарапал и отдал записку для ее надсмотрщика. «Передай это ему, – приказал он и добавил: – Если не передашь, пеняй на себя». И со свистом рассек кнутом соленый воздух. Раньше их можно было не предупреждать: повинуясь «действенной симпатии», они всегда передавали записки, даже если знали, что там может быть начертан их смертный приговор.
Она посмотрела на записку, потом на него. В ее глазах то ли отражались, то ли плыли облака. Вокруг плескалось море, стервятники кружили в небе. Мол тянулся к безопасной тверди берега; однако достаточно было одного слова – любого, пусть даже самого незначительного, – чтобы заронить в них обоих странную уверенность в том, что их путь вел в противоположную сторону, по невидимому, еще не построенному молу, словно море для них было сушей, как для Спасителя нашего.
В той встрече, как и в случае с придавленной рельсом женщиной, было нечто, напомнившее ему вольное солдатское житье. Он вдруг осознал, что не желал ни с кем делить эту девушку, и вновь ощутил удовольствие от возможности выбора, последствия которого – даже самые ужасные – он мог игнорировать.
Он спросил, как ее зовут. «Сара», – ответила она, все еще не спуская с него глаз. Холодный, как сама Антарктика, шквал пронесся над водой, окатив их солеными брызгами, и устремился дальше на север, чтобы иссякнуть, так и не достигнув устья реки Конго или залива Бенин. Она вздрогнула, его рука как бы рефлекторно скользнула, чтобы коснуться ее, но она уклонилась от прикосновения и нагнулась за камнем. Он слегка похлопал ее кнутовищем по ягодицам, и вся странность этого момента, в чем бы она ни состояла, тут же улетучилась.
В ту ночь она не пришла. На следующее утро он разыскал ее на молу, заставил встать на колени, поставил ногу ей на затылок так, чтобы ее голова оказалась под водой, и держал там, пока не почувствовал, что ей пора глотнуть воздуха. Только теперь он разглядел, какие у нее длинные и гибкие ноги, как под блестящей, словно светящейся кожей отчетливо проступают мускулы, рельефно обозначившиеся в результате полуголодной жизни в буше. На протяжении дня он по малейшему поводу стегал ее шамбоком. На закате он написал и вручил ей еще одну записку. «Даю тебе час», – предупредил он. Она внимательно смотрела на него, и в ее облике не было ничего от дикого животного, как у других негритянок. В глазах отражалось только красное солнце да белые клочья тумана, который уже висел над водой.
Он не стал ужинать. Ждал ее в своем одиноком доме рядом с оградой из колючей проволоки, прислушиваясь к пьяным крикам надсмотрщиков, выбиравших себе на ночь наложниц. Он не находил себе места и, вероятно, простудился. Час прошел; она так и не появилась. Не надевая пальто, он выскочил из дому в плотный, как туча, туман и направился в негритянский поселок. Кругом была кромешная тьма. Он шел спотыкаясь, порывы ветра с дождем хлестали ему в лицо. Дойдя до ограды, он зажег фонарик и принялся искать ее. Чернокожие, наверное, решили, что он спятил; возможно, так оно и было. Трудно сказать, сколько времени он ее разыскивал. Все напрасно. Они все выглядели одинаково.
На следующее утро она, как обычно, вышла на работу. Он подозвал двух женщин поздоровее, велел им держать Сару, положив ее на камень, а сам сначала исхлестал ее шамбоком и затем овладел ею. Она лежала оцепенев; и когда все кончилось, он с удивлением обнаружил, что в какой-то момент обе женщины, как добродушные дуэньи, оставили их и отправились работать.
Ночью, когда он уже давно отправился на боковую, она пробралась в дом и скользнула к нему в постель. Ох уж эти женщины! Она принадлежала ему.
Но как долго он мог держать ее при себе? Днем он привязывал се к кровати, а вечерами продолжал пользоваться услугами женщин из загона, чтобы но возбуждать подозрений. Сара могла бы готовить, стирать, ухаживать за ним, могла бы принадлежать только ему и стать для него почти женой. Но на этом туманном, влажном, бесплодном берегу не было права собственности на что-либо, ничем нельзя было владеть единолично. Общее владение всем и вся было единственным возможным средством противостоять притязаниям Бездушия. Довольно скоро его сосед-педераст заметил Сару, она ему приглянулась, и он заявил, что тоже желает ею воспользоваться. В ответ пришлось солгать, что она из загона и он получит ее по очереди. Но это давало им лишь краткую отсрочку. Сосед зашел к нему днем и, обнаружив Сару, привязанную к кровати и беззащитную, поимел ее на свой собственный лад, а потом, как заботливый сержант, решил поделиться удачей со всем взводом. За время с полудня до ужина, пока туманное марево ползло над землей, они, не имея понятия о нормальном распределении, обрушили на нее все мыслимые виды сексуальных извращений. Бедняжка Сара, она была «его» Сарой лишь краткий срок – иного этот отвратный берег допустить не мог.