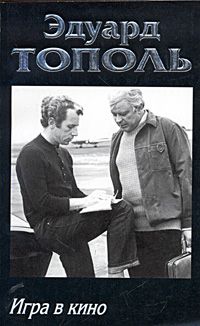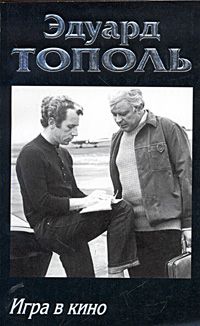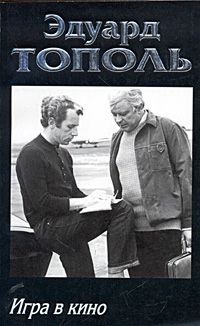– Люся, иди домой. Мы заедем завтра.
– Отстань! – с ожесточением и даже какой-то брезгливостью выдернула она свой локоть. Но затем сказала не враждебно, а будто просто сообщила: – Вы свиньи, я не хочу вас видеть. – И, забросив за плечо длинный трехцветный шерстяной шарф, опять позвала кошку: – Кс-кс-кс!
– Не выступай, иди домой, – пробовал удержать ее бородатый.
Но Люся не слушала, обратилась к осетру, все так же по-театральному округляя слова:
– Чья это такая осетриночка?!
И даже приложилась щекой к рыбе. И тут увидела застывшего на турнике Митю. Их взгляды встретились. И в ее глазах он прочитал все – от удивления до волевой попытки заставить себя протрезветь.
Меж тем «Москвич» развернулся, и бородатый собрался сесть в него, но Люся вдруг выпрямилась над осетром, приказала:
– Стойте!
Бородатый и водитель «Москвича» оглянулись.
– Смотрите, вы! – громко и презрительно сказала им Люся. – Вот кто меня любит!
И медленными шагами, с едва заметным, но все же заметным нарочитым перебором драматизма пошла к турнику, остановилась перед ним, глядя Мите в глаза, а потом рухнула перед ним на колени прямо в снег.
– Прости меня.
Из-за угла показалась старуха соседка, уже без внука.
«Москвич», заурчав мотором, поспешно ушел, и вместе с ним, конечно, укатил бородатый, а в окнах дома показались любопытные лица.
Митя сидел на турнике, нелепо перебросив ногу через перекладину и глядя на лежащую внизу Люсю.
Какой-то пацан катил мимо санки, остановился и с недоумением уставился на Люсю и Гурьянова.
Люся неловко поднялась со снега, отряхнула колени и сказала трезво и горько:
– Слезай же. И вали отсюда.
И, не поднимая глаз, медленно пошла к подъезду. Конец длинного модного трехцветного шарфа тащился за ней по снегу.
Проходя мимо осетра, Люся тронула его пальцами, будто, прощаясь, провела черту и – исчезла в подъезде.
Гурьянов глядел ей вслед, ждал еще неизвестно чего, потом неловко соскочил с турника, подошел к скамейке, надел свой полушубок, взглянул на осетра. И вдруг изо всей силы хряпнул его сапогом по осетровой морде.
Кафе «Метелица», второй этаж. Огромный притемненный зал битком набит молодежью. За четырехместными столиками сидят по восемь человек, пьют коктейли и лимонад, обсуждают последние записи Ринго Старра и Фрэнка Синатры, курят и негромко поют под гитару. Все тут знают друг друга, легко переходят от столика к столику, где-то изнывает от саксофонной истомы музыкальный автомат.
За одним из столиков – Митя Гурьянов в соседстве с дюжиной ребят и девиц.
– Да брось ты, – утешает его молоденький семнадцатилетний парень.
– Что ты знаешь? Что ты знаешь? – грустно вопросил Гурьянов. – Меня на Севере такая женщина любила! Эта по сравнению с ней… – Он презрительно и отчаянно махнул рукой.
– Ладно, старик! Что ты из-за какой-то метелки?.. Баба тебе нужна? Сделаем.
– Эй! – позвал официантку Гурьянов, а парень окликнул ее по имени:
– Зина.
Официантка подошла, Гурьянов распорядился:
– Еще шампанское, бутылку.
– Две, – сказал парень и объяснил: – На всех.
– Две, – подтвердил Гурьянов.
– Деньги сразу, – сказала официантка.
– У него есть, – успокоил ее парень.
– Деньги сразу, – бесстрастно повторила она.
– Правильно, – сказал Гурьянов. – Наш человек.
И достал из кармана пачку ассигнаций. Поглядел на них, разом трезвея, потом косым взглядом отметил, что компания, бросив свой разговор, тоже на эту пачку взглянула, ухмыльнулся и сунул деньги обратно. А официантке широким жестом протянул две десятки.
– На, тундра, гуляй!
– Еще трояк, – сказала официантка. – Шесть коктейлей было.
Он поглядел ей в глаза. Она смотрела на него спокойно, даже с каким-то наглым вызовом. На вид ей было двадцать два, ну – двадцать три, но глаза взрослые, беззастенчивые. Гурьянов, не споря, отдал ей еще три рубля. И предложил всем:
– Братцы, споем? – И, не ожидая никого, запел: – Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем далеко… Эх, салаги, я такую женщину бросил!.. Товарищ, мы едем далеко…
Компания отстраненно молчала, официантка принесла шампанское.
Через час компания вывалилась из кафе.
– Гуд бай, старик!
– Слушай, отец, займи трешник на тачку.
– Танька, мать, ты куда? Опять «динамо»? Постой! – Пока, мужик, чао!.. И Гурьянов остался один.
Холодный ночной проспект с холодными неоновыми огнями. Шелуха отклеивающихся афиш, застывшие манекены в витринах. Высотные дома. И – одинокий Гурьянов.
Из кафе вышла официантка Зина. В шубке, модных сапожках. Посмотрела на Гурьянова, усмехнулась:
– Ну, все вытрясли?
Он промолчал.
– Ночевать-то хоть есть где?
– А тебе что?
– Ничего. Спрашиваю. На вокзал пойдешь? – Она опять усмехнулась. – Ну, пока.
И пошла, цокая сапожками по бетонным плитам тротуара.
– Эй, – окликнул Гурьянов.
Щелкнул английский дверной замок, дверь Зининой квартиры захлопнулась за Гурьяновым. Зина включила свет.
– Сюда. – Она провела его по коридору в крохотную комнату-пенал с одним окном и тахтой у стены. Еще стоял здесь старый, отключенный от сети холодильник «Газоаппарат-II» и вместо столика и тумбочки – станок от ножной швейной машины. А больше в комнате ничего не было – пусто.
– Телефон в коридоре, белье в холодильнике, – сказала Зина. – В месяц сорок рублей, деньги сразу.
Она требовательно протянула руку, Гурьянов достал деньги, отдал. Зина деловито пересчитала, спрятала, предупредила:
– Ко мне в комнату хода нет, и вообще – без этого чтоб, без дури. Усек?
– Усек. – Он хмуро отошел к окну, поглядел на город. Город лежал внизу, в ночи, горбился крышами.
– Да ты не боись, – уже чуть мягче сказала за спиной Зина. – Я сначала тоже так. А потом… Тут жить можно. Устроиться только надо.
– Устроюсь, – произнес Гурьянов, глядя за окно и словно примериваясь к этому новому своему месту жительства.
Зина ушла в свою комнату, и ключ в ее двери сухо повернулся на два оборота – он слышал. Но ему это было все равно, он стоял у окна, смотрел.
Где-то вдали проклацал по стыкам рельсов грузовой трамвай, потом по ночной улице прошли, закуривая на ходу, рабочие с маленькими чемоданчиками в руках. В стороне вздохнул и ухнул кузнечный пресс. Над станцией метрополитена чинили мигающую красную букву «М». Москва исподволь, с ночи еще начинала новый трудовой день. И в одном из окон стоял ее новый житель Дмитрий Гурьянов. В полушубке, шапке – он только прибыл.
Прошел месяц.
Столица жила полнокровной столичной жизнью – она запускала по утрам конвейеры и станки, плавила сталь, училась в школах и институтах, по-весеннему мыла окна и красила садовые скамейки, собирала хитрые ЭВМ, синтезировала пластмассы, прокладывала новые тоннели метро. Она работала – красиво, с размахом, в ритме.
И Гурьянов тоже работал в этой многоликой Москве.
Десяток финских гарнитуров стояли на тротуаре у входа в мебельный магазин, солнечное весеннее утро смотрелось в их чистую полировку. Покупатели наперебой заискивали перед грузчиками и шоферами, дожидаясь своей очереди увезти мебель домой.
Затолкав последний сервант в набитый до отказа мебельный фургон, трое грузчиков и сами втиснулись туда же, и один из них – расторопный и ушлый бригадир Костик – тут же достал колоду засаленных карт. А Гурьянов закрыл за ними дверцу фургона, щелкнул задвижкой и ушел в кабину, сел за баранку, спросил у запаренного и счастливого от покупки клиента:
– Куда дерево везем?
– Какое дерево? – не понял тот.
– Ну, мебель.
– А! В Бескудники. Дерево!
Карусель рабочего дня закружилась в ритме утренней передачи радиостанции «Юность». Гурьянов вел свой фургон во всякие Химки, Бескудники, Беляево, Мневники и Медведково. Новая жизнь заселяла молодые пригороды Подмосковья, щедро строились тут новые высотные микрорайоны, и новоселы нетерпеливо ждали мебельный фургон у новых подъездов – радовались, суетились, ахали и охали. Финские, рижские и прочие мебельные гарнитуры взбирались по лестницам, поднимались лифтами и утверждались в новых квартирах. Полированные столы, серванты, тахты, шкафы, пуфики и мягкие диваны, гарнитуры под дуб, под бук, под карельскую и некарельскую березу – за этой мебелью выстаивали в очередях, гладили ей полировку, дышали на нее, таскали на руках, ставили в «красные» и во все прочие углы квартир, а Гурьянову и его напарникам доставались от этого ажиотажа щедрые чаевые – за перевозку, за погрузку-разгрузку.
Обедал Гурьянов в «Метелице», у Зины.
Маленький столик перед самым входом на кухню – служебный, двухместный. И порции служебные – с верхом. А напротив Зина сидит, смотрит, как он ест.
– Не спеши, – говорит Зина, и глаза у нее приглядывающиеся, оценивающие, и взгляд долгий.