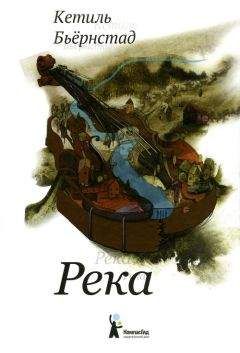— Сыграть за меня этот концерт.
Он громко смеется. Знакомое лошадиное ржание.
— Смеешься? — выдавливает он из себя. — Это хорошо. Весь мир ждет!
— Спасибо. Давайте уже скорее пройдем через это.
— Я дам тебе хороший совет, — говорит он. — Ни о чем не думай, когда будешь сидеть на сцене. Сосредоточься только на музыке.
В. Гуде покидает меня за минуту до моего выхода на сцену. Я остаюсь один с капельдинером, который не произносит ни слова. Его единственная задача — распахнуть передо мной дверь так же, как я распахивал ее перед Аней Скууг.
Как странно, что со мной все это случилось, думаю я.
Свет гаснет. Разговоры смолкают. Я иду по желтому покрытому лаком полу Аулы, под «Солнцем» Мунка.
Публика аплодирует. Меня охватывает странное стеснение. Неужели я и вправду буду здесь сегодня играть? Более чем на полтора часа займу внимание всех этих людей?
Я чувствую себя здесь чужим, не на своем месте.
Первая, кого я вижу в зале, это Катрине. Значит, она успела вернуться домой вовремя ради меня. Это меня трогает. Она моя сестра. Она тоже любила Аню Скууг. И объехала полмира, чтобы пережить эту потерю. Я же поступил наоборот: остался дома и женился на Аниной матери.
Но Катрине еще не знает об этом.
Потом я вижу Сельму Люнге, ее знаменитых гостей. Я думал, что начну нервничать, увидев их. Однако не нервничаю. Наоборот, они вдохновляют меня. Мне хочется удивить их. Показать им, на что я способен. Показать, что эта музыка живет во мне после девяти месяцев беременности. Что я чувствую себя уверенным, потому что Марианне сидит там, смотрит на меня и ободрительно улыбается, потому что я знаю, что она любит меня, потому что она носит под сердцем нашего ребенка.
Больше я не смею смотреть в зал.
Дрожь приходит вместе с Фартейном Валеном. Две прелюдии для рояля, опус 29. Их мало кто знает. Меня охватывает бессилие, но никто этого не замечает. У меня потеют пальцы. Мысли скользят, я не могу сосредоточиться, и меня охватывает дикая усталость. Я думаю о Валене. Он так никогда и не женился. Был глубоко религиозен, владел девятью языками и выращивал розы. Работал с диссонирующим контрапунктом. Но это опасные мысли. Я помню, что сказал мне В. Гуде. Не думай. Сосредоточься только на музыке.
Это помогает.
После этих прелюдий меня награждают вежливыми, немного сдержанными аплодисментами. Мало кто любит атональную музыку Валена. Некоторым кажется, что это странное начало для дебютного концерта.
Но я не позволяю себе обращать на это внимание. Теперь начинается первая проба сил. Седьмая соната Прокофьева. Когда я снова сажусь, раскланявшись после аплодисментов, у меня в голове что-то происходит. Я словно чего-то жду от себя. У меня такое чувство, словно меня еще что-то ждет в жизни, что все еще возможно, что меня после огромного горя ожидает большая радость. Что я могу сообщить людям нечто важное.
Дрожь исчезает. Пальцы больше не потеют. Я беру первые сердитые октавы. Первая часть слишком раздраженная, слишком накаленная и колючая, почти злая. Техника меня не подводит, но в начале второй части я обретаю силу, чувствительность, поднимающие пианиста над обыденностью. Я позволяю себе думать, что это хорошо. Позволяю себе думать, что я справлюсь, что передам какие-то чувства, что-то, что мне пришлось пережить, что-то очень существенное.
Не думай, Аксель. Сосредоточься только на музыке.
Мне кажется, что соната Прокофьева окончилась, не успев начаться. Сумасшедшие каскады октав в конце последней части звучат как выстрелы. К счастью, рояль хорошо настроен, чтобы передать энергию. Звучит великолепно. Даже мне это слышно. Бурное крещендо. У меня хватает сил. Я нес на спине Марианне Скууг почти всю дорогу с Брюнколлен. Теперь я снова это делаю. И осуществляю это без единой ошибки.
Аплодисментам не слышно конца. Громкие крики «браво!», но на этот раз в нужном месте. Я смотрю на Марианне. Она аплодирует, подняв руки вверх. Кричит мне «браво!». Но делает это беззвучно, с улыбкой, чтобы я понял, что она помнит про случай с Катрине. Теперь я наконец чувствую уверенность. Теперь я забываю посмотреть на Сельму Люнге. Мне это уже не нужно. С Шопеном я справлюсь и без ее помощи. Фантазия фа минор — тоже крещендо, прерванная мечта, перед тем как новое крещендо раздвинет границы и найдет путь к примирению и покорности.
Я погружен в музыку. Живу в ней. Управляю ею. Сидя на сцене, я ощущаю близость Марианне. Чувствую все, что она пробудила во мне. Мне даже не нужно ничего ей доказывать. Мне надо только остаться целым и невредимым после этого концерта, и тогда мы сможем строить новые планы, задавать новые вопросы, и я смогу жить только для нее и нашего ребенка.
Снова аплодисменты. Крики «браво!». Я раскланиваюсь перед антрактом. Охваченный радостью, я в то же время чувствую досаду. Мне не хватает Ребекки и Маргрете Ирене.
Но Марианне здесь.
В антракте ко мне приходят Сельма Люнге и В. Гуде. Они взволнованны, как дети. Сельма в восторге обнимает меня.
— Мой мальчик, — говорит она дрожащим голосом. — Ты даже не знаешь, как хорошо ты играл, как я благодарна тебе!
В. Гуде разводит руками и говорит:
— Это историческое событие, молодой человек! Высший класс!
— А теперь идите! — Я машу рукой, чтобы они ушли. Они мне больше не нужны.
Второе отделение, я готов и сосредоточен, готов к Бетховену, благодарный за то, что спокоен, а спокоен, потому что уверен в себе, потому что, несмотря ни на что, много занимался и знаю это произведение вдоль и поперек, потому что могу играть левой рукой без правой и наоборот, потому что я, кроме того, помню о двадцати местах, с которых легко могу снова начать.
И теперь, много лет спустя, я помню, как медленно я играю и как быстро все проходит. Помню, что фрагменты нанизаны друг на друга, точно жемчужины на нитку. Помню, что темы поют и что фуги обладают достаточной глубиной. Аплодисментов я не помню. Зато помню, что чувствовал себя в гармонии с самим собой, помню, что обрел новую уверенность в себе, потому что могу посмотреть в глаза Марианне, подарившей мне эту уверенность, потому что с радостью жду конца этой тяжелой, серьезной баховской секвенции с прелюдией и фугой до-диез минор. И радуюсь, что все уже позади, что я могу вернуться к началу, могу осмелиться думать, как Ребекка, могу спросить у самого себя: «Стоит ли это того?» Но пока еще меня радует каждая взятая мною нота. Еще под моими пальцами растет Бах. Еще мне кажется, что жизнь имеет свою архитектуру, что в ней существуют смысл, логика, последовательность.
И пока я стою на краю пропасти, даже не подозревая о ней, я чувствую, что ноги меня держат, что пальцы обладают нужной силой, что я могу улыбаться, когда зал в конце концерта поднимает меня на волне аплодисментов и восторженного признания. Но чему они аплодируют? — думаю я. Тому, что я могу выразить музыкой? Или моему пути сюда, спортивным достижениям, тяжелым дням, что мне пришлось пережить?
Я играю Бёрда. «Павану» и «Гальярду». Этого недостаточно. Публика жаждет слушать еще. И тогда я совершаю глупость. В порыве самоуверенности я играю «Реку». Даже спустя много лет, сидя за своим письменным столом, я думаю: имело ли это значение? Подтолкнуло ли какую-то мысль, разбудило наитие? Наитие, повинуясь которому Марианне особенно выделила этот номер, так же как я по наитию пошел на Эльвефарет и позвонил в ее дверь? В жизни многие случайности бывают связаны с роковыми последствиями. Если бы в тот день Брур Скууг не услышал разговор Марианне… Если бы Аня не умерла… Если бы мама не выпила двух бутылок вина… Если бы я не поехал в клинику и не посватался к Марианне…
Теперь поздно об этом думать. Поздно было и тогда, когда я играл «Реку». Когда публика отшатнулась от меня. Когда я сделал нечто неожиданное, что публике не понравилось. Сделал умышленно и сознательно то, что уже не могло остановить Марианне, не помешало ей встать, как только прозвучали последние такты и стихли последние вежливые, немного растерянные аплодисменты — «А что это было?»
Но она хотя бы повернулась и махнула мне рукой, как махнула мама перед тем, как ее увлек водопад. А я в охватившем меня себялюбивом опьянении радостью, там, на сцене, не понял, что это было прощание. Я подумал, что это — обещание, что она подняла руку, чтобы сказать мне, что она сейчас придет, что она выбежит из главного входа, обогнет большое здание и будет ждать меня в фойе для артистов, когда я после еще одного номера на бис — я и сегодня не вспомню, что я тогда играл, — спущусь со сцены.
Такой я и запомнил ее: счастливой, молодой, с ребенком под сердцем. Ей было так легко, потому что это был конец, конец всем ее страданиям. Ей было так легко, потому что жизнь больше не касалась ее. Ей было легко, потому что она видела, что у меня все будет хорошо. И, может быть, думаю я теперь, сидя согнувшись над бумагой и чувствуя бесконечную усталость, она радовалась до последней минуты. Ожидание, вопреки всему. Может быть, в эти последние секунды своей жизни, когда она стояла на табурете возле морозильной камеры, она тянулась к тем словам, которые я процитировал ей, когда мы, молодожены, лежали в постели всего несколько недель назад в Вене в отеле «Захер»: