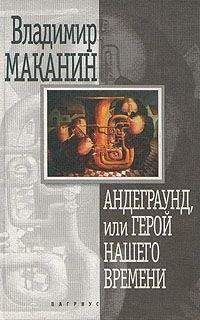Что касается улыбающейся сорокалетней медсестры Маруси, я представился ей старым холостяком (наивным и озабоченным своим здоровьишком). Я, будто бы от волнения, никак не мог запомнить препарат, которым Маруся набила мне уже обе ягодицы. Шутил — не пора ли мне на будущее (то есть впрок) красть потихоньку бесценные ампулы?
Маруся смеялась (вновь звучно назвала препарат) — мол, что ж красть, если сейчас просто достать, были бы деньги. В аптеке. Приходишь и покупаешь. А препарат привозной? — интересовался я. Да, зарубежный... Маруся объясняла (больному как маленькому). В аптеке человек всегда может спросить — чем заменить? и нет ли отечественного аналога?.. В конце концов я смогу про аналог узнать у тебя, Маруся, верно? (На фиг мне препарат, дай мне свою любовь и телефон домашний.)
— Зачем же домой? Звони сюда. Звони в день, когда я дежурю, — все расскажу, все объясню. (Легкий отказ.)
Поговорили и о животрепещущем. Об Иване. И о сестре Инне. Такая длинноногая!
— ... Дала ему? — вопрос (шепотком).
— Не-ет. Еще не так скоро.
— Ну уж!.. — И Маруся строго на меня посмотрела. — Должно быть, на днях. — Упрекнула, словно бы из всех наших шизов именно я буду зван присвечивать. Но по сути она просто призывала меня к большей коридорной бдительности.
Маруся потянулась, ее груди стали колесом:
— Она его (Ивана) вчера ждала. На дежурстве. А его вообще в больнице не было.
Я кивнул. Знаю.
Пока с Марусей лишь разговоры, и все же я изрядно продвинулся. Помягчел взгляд ее крохотных улыбчивых глазок. И она чаще при мне потягивалась, вздымая груди. Я креп духом. А тут еще выбросился из окна мой соперник, уважаемый Марусей псих Головастенко, моих лет, раза два я с ним вместе курил. Маруся, всплакнув, сообщила: Петр Ефимыч, отпущенный на субботу-воскресенье, выбросился из окна у себя дома. Насмерть. Уже схоронили. Маруся, и я вслед за ней, взгрустнули. (Здесь принято. Грустить о своих клиентах. Я, увы, с этим чувством запаздывал.) Мы с Марусей порассуждали о таинстве смерти — о торжественности всякого конца жизни. Но вдруг я хе-хекнул...
— Тебе его не жалко?
Я мог потерять Марусю в минуту. Я постарался (хотя бы коротко) всплакнуть, но выжал всего одну водянистую слезу, — тем и кончилось. Слеза была не моя, я даже не понял, откуда она упала.
Не плачется, сказал ей.
— Это препарат на тебя так сильно действует? — И сорокалетняя женщина устремила на меня пытливо-оценочный взгляд.
Я пообещал: я, мол, к вечеру обычно оживаю...
— А вдруг нет? (Вопрос о нашем будущем.)
— К вечеру оживаю!
— А вдруг? — Маруся тоже неожиданно засмеялась. (Мы сближались.)
В пятницу-субботу меня не отпустили (а я уже ожидал). Старшая сестра Калерия, она дежурила, объяснила, что не отпускают нас опять же из-за ЧП. Больной Кривошеин, будучи отпущен, угодил под мотоцикл. Нет, не сильно. Но Кривошеин так напуган, что на всякий случай (Калерия скорбно скривила губы) ходит с костылем, а в другой руке — гнутая палка.
— Малость выждем. К праздникам всех выпустят, — уверенно пообещала мне Маруся, сменившая Калерию на другой день.
С Марусей я уже посиживал рядом. Сближению слегка мешал сломавшийся на днях (на больничном сухаре) мой передний зуб (какое-то время уйдет на речевое привыкание). В особенности шипящие, нет-нет и я заплевывал мою чистенькую, толстенькую собеседницу.
Она возмутилась:
— Что это ты сегодня?
— Зуб.
Помолчали.
— Жены давно нет?
— Разоше-еоолся. Давно! — сказал я с очень точной доверительной интонацией.
Сближение (как идея) нас обоих все более воодушевляло — сойтись, мол, как только я выйду из больницы. Можно сойтись на время. Можно и пожить. Ее кв метры (паркетная доска?) уже издалека манили большими пуховыми подушками, предрассветной свежестью и запахом кофе со сгущенным молоком (ведь она рано встает!). Меня подхватило:
— Приятная у тебя фигура! Ах, эти плечи... — На этот раз я удачно сдержал слюну напряжением в горле. Я не говорил — пел; она снисходя слушала.
Дело известное: больные часто увиваются вокруг сестер, а сестры (тем более старшие сестры) боятся скрытых или потенциальных наркоманов. Знают, как больно оторвать и как трудно бывает выставить сроднившегося с тобой и все больше опускающегося мужика. Мой интерес выглядел честнее: мой препарат (мой наркотик) — это всего лишь теплота общения. Не под запретом. А что до предписанных мне препаратов, я, и точно, куплю в аптеке. (Но неужели Маруся покупает самой себе анальгетики? бинты, одноразовые шприцы?.. Не верю.)
В варианте мы гляделись неплохой парой: уже загодя едины, мы хихикали над Иваном и длинноногой Инной, над ядовитым Волиным-Холиным, что прощупывает каждого больного своими учеными глазками. Совпадение мнений — это к совпадению чувств. Это к совпадению на ее кровати (высокой, но на мой вкус узковатой, одеяло верблюжье? в серую клетку?). Маруся будет посмеиваться над тощенькой воображалой Инной, а я буду Марусю мять, поворачивать и оставлять ей легкие синяки на крепких ее местах. (Будто бы из затаенной мести красивой Инне и Ивану Емельяновичу. Их знаменитому роману.)
А что — стану, пожалуй, делать вид, что ревнив к прошлому, выспрашивать, а как с ней, с Марусей — до Инны — было ли что у Ивана с Марусей?.. «Да так. Было разок на диване!» — тщеславно солжет она, сболтнет наскоро и смешок небрежный (Иван ее и не замечал как женщину), а я помрачнею и надуюсь. Пока не скажет, спохватившись, насколько я умелее, а то и слаще Ивана.
— Ладно тебе. Засиделись, — прерывает Маруся наше с ней общение (уже текучее, неостановимое, как жизнь).
Мы выходим из процедурной под зарешеченный свод. Маруся запирает дверь, бренча связкой ключей, а я сзади, как бы поправляя хлястик на ее белом халате (всегда свежайший, свежее, чем у Инны), ощупываю ее тугие позвонки, сцементированные заматерелым жирком — она мою руку слышит! Я пытаюсь жить. Я наращиваю желание, вопреки препаратам в крови.
Желания, к сожалению, пока что слабоваты и водянисты. Как та слеза, что я еле уронил. Но стараюсь: я пытаюсь разжечь себя заемным чувством — то есть сначала умом, через вторую сигнальную. Я представляю (в своих руках) не столько Марусю, сколько Марусину тяжесть. Или (в глазах) ее поздневечерний домашний вид: подкатывающееся ко мне белое тело — колобок в ночной рубашке. Но всякий образ — краток. Огонь еле вспыхивает. Огнь (сказал бы поэт) не разгорается, тлеет, дымит, чадит, и я чувствую себя не активно домогающимся мужчиной, а старой блядью, хлопочущей ради выгоды. (Ради дармовых препаратов.) Однако стараюсь. Мысль-то ведет. И не навсегда же в моей крови нейролептики.
— Там шумок в коридоре — кто это? — спрашивает Маруся, гремя замком напоследок.
— Никого.
Рукой (правой) все еще оглаживаю ее крестец, а в левой зажат украденный одноразовый шприц. Просто так. Чтобы разбудить инстинкты. Шприцы дешевы, и я не придаю краже значения. Но я хочу ожить: это как проба на поступок с правонарушением (испытать себя на испуг поимки). Пробная затея, которая дается тем легче, что испуг водянист и тоже неотчетлив, как и все чувства.
Я помнил, что психушка — кусочек государства. Они, врачи (сестры, палаты, кровати, капельницы, шприцы, ампулы, все вместе) тоже дежурят и, значит, стерегут. Они начеку даже ночью, и их ночные огни у въезда говорят куда больше, чем освещение ворот и знак места, где следует въезжать машинам. (Такие же дежурящие ночные огни возле отделений милиции; возле тюрем.) Мне ли, сторожу, не знать, почему (зачем) всякое твое волнение оборачивается в этих стенах с помощью нейролептиков в ничто: в пузырьки откупоренного нарзана.
Но, возможно, как раз поэтому забота о своем «я» в таких стенах начинается с выходки — с шутки, включая и ее воровской игровой момент. Каждый знает, что прятать краденое надо не в свой, и даже не в чужой (накладка на совесть), а в свободный матрас. В палате пустовала койка Головастенки. В нас всех заложено и живет — зековское. Улучив минуту (психи заковыляли в коридор, к чаю), я быстро откинул матрас, легко нашел в нем дырку и сунул туда шприц в хрустящей девственной упаковке. Шприц я намеревался отдать Солипудову. Отдать ни ради чего; просто так — пусть просто скажет спасибо. Он подобные предметы ценил. (Болезнь мелочного собирательства.) Но Солипуд как раз из тех, кто отпущен на субботу-воскресенье. А куда еще было деть шприц до понедельника?
С мыслью, что и меня на день-два скоро отпустят, я попросился к телефону. Поклянчил, поныл и вот заскочил в сестринскую.
Позвонил я Зинаиде вроде бы просто так — привет, привет! — просто так, но и с житейским (с банным) прицелом: когда отпустят на праздники, не идти во вьетнамский бомжатник, а попытаться к Зинаиде, хотя бы помоюсь как следует; при бабе и в тепле. Зинаида (ненормальная!) тут же стала сама напрашиваться в гости, ой, как хочу тебя видеть. Обрадовалась и растаяла: где ты? как ты?! — кричала. Я уже жалел, что позвонил. Аппарат в сестринской ужасный: скрежеты и подземные шумы. Нагряну, забегу к тебе (кричала), хочу тебе, может, подарочек какой! Огурчиков! А выпить тебе можно?