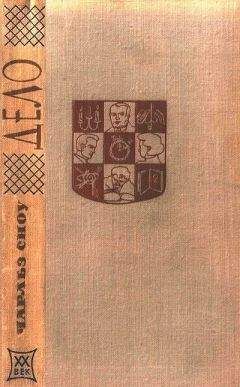— Что же вы сделали тогда?
— Да просто взглянул на нее. Ничего интересного она собой не представляла.
— Вы утверждаете, что в фотографии не было ничего поддельного. А как насчет подписи к ней?
— Я был слишком занят, чтобы задумываться над этим.
— Слишком заняты?
— Да, слишком занят. — Он повысил голос.
— Вы только взглянули на эту фотографию? Нижняя половина страницы выглядела так же, как сейчас? — Я пододвинул к нему тетрадь.
— Да.
— Вы взглянули на фотографию? А что вы сделали после этого?
Он в упор посмотрел на меня. Затем сказал:
— Положил, конечно, тетрадь назад вместе с остальным досье Пелэрета, только и всего.
Накануне вечером, захваченный бурной вспышкой его чувств, я не знал, чему верить. Так и сейчас, глядя на чистую страницу, я потерял вдруг всякую способность разбираться в фактах. Я прекрасно представлял себе, как декабрьским утром он так же смотрит на эту страницу и видит перед собой либо прочно приклеенную фотографию, либо пустое место, после того как он вырвал ее. То и другое было одинаково вероятно и невероятно. Мне приходилось испытывать подобное головокружительное состояние в молодости, когда я выступал в уголовных процессах, и позднее, когда официальное положение уже ограждало меня от всех неприятностей; испытывал я его иногда и ослепленный вспышкой внезапного подозрения. Каким-то образом, углубляясь в факты, в простые, естественные факты преступления, вы вдруг замечали, что теряете ясное представление о человеке, в жизни которого они сыграли определенную роль, перестаете понимать его.
Погрязнув в фактах преступления, вы готовы поверить чему угодно. Факты гипнотизируют; факты кажутся безличными, факты кажутся невинными, когда вы рассматриваете их. Точно такими видел их и человек, совершивший преступление. Если Найтингэйл выдрал из тетради фотографию, это могло показаться ему совсем простым, невинным поступком. Могло показаться, что несправедливо подымать из-за этого столько шума. И не только возможно, а очень легко было начисто забыть об этом впоследствии (я знал многих, кому это удавалось, включая меня самого, когда мне случалось совершать поступок, вредивший кому-то), забыть именно потому, что сам по себе поступок казался таким безобидным.
— Вы хотите сказать, что, когда вы положили тетрадь назад, фотография была на месте?
— Конечно, я хочу сказать именно это! — в бешенстве крикнул Найтингэйл.
— Но когда тетрадь была открыта следующий раз, оказалось, что фотография исчезла?
— Так по крайней мере мы слышали.
До этого момента я ничего не мог вытянуть из Найтингэйла. Внезапно я увидел, что он рассвирепел и снова вращает глазами от злости.
— Извините, — сказал я. — Может быть, я неправильно понял. Ведь вслед за вами просматривал тетрадь Скэффингтон?
— Так мне говорили.
— Да, но когда он просматривал тетрадь, фотографии на месте уже не было?
— Мы много слышали, — сказал Найтингэйл, — о том, что никто не делает никаких заявлений, направленных против кого-то определенного. Так давайте же все играть в эту игру. Я не собираюсь делать заявления, направленного против кого-то определенного. Но почему бы кому-нибудь из говардовских друзей было не вытащить из тетради этой фотографии? Подлинной, неподдельной фотографии? Просто для того, чтобы снова заварить всю эту кашу? Для того, чтобы — чего уж там в прятки играть — тыкать пальцем на меня?
— Но ведь это мог быть только Скэффингтон?
— Это сказали вы. Я ничего не говорил.
— Но разве можно назвать его одним из говардовских друзей?
— Это вам лучше знать. Я тут ни при чем.
— Можете вы представить себе, чтобы Скэффингтон пошел на такое дело ради кого бы или чего бы то ни было?
— Кое-кто представлял себе, что подобный поступок могу сделать я. Не так ли?
Было уже около двух часов. На этом я закончил. Как только заседание суда возобновилось после завтрака, мне стало ясно, что хотя я еще не прорвал оборону, но кое-чего я все-таки добился. Доуссон-Хилл всячески старался сгладить впечатление от обвинения, которое в последние пять минут утреннего заседания выдвинул Найтингэйл против Скэффингтона. Обвинение было совершенно дикое, и Доуссон-Хилл, допрашивая Найтингэйла, в сущности, старался вбить ему, что он должен пересмотреть его и взять назад.
Найтингэйл упирался долго. Его заявление ни против кого не направлено, упрямо твердил он. Доуссон-Хилл обращался с ним мягко и почтительно, и постепенно лицо Найтингэйла смягчилось. Но Доуссон-Хиллу, как он ни трудился, так и не удалось заставить его взять назад свои слова или хотя бы занять прежнюю деловую разумную позицию. Затем он стал добиваться, также безуспешно, еще одного ответа. Его тревожило показание Найтингэйла, что он видел фотографию. Вполне ли Найтингэйл доверяет своей памяти? Может быть, именно на этот раз она ему слегка изменила? Не думает ли он, что фотография, возможно — даже вероятно, — была уже вырвана, когда тетрадь попалась ему на глаза? Доуссон-Хилл хотел услышать в ответ на эти вопросы чистосердечное «да». Ему понадобилась вся его изобретательность, чтобы заставить Найтингэйла хотя бы признать возможность этого.
Чистосердечные ответы последовали наконец на два последних вопроса:
— Никаких причин, которые могли бы заставить вас поверить, что Пелэрет когда-нибудь подделал какую-нибудь фотографию, вы не видите?
— Конечно нет!
— Вы продолжаете верить в виновность Говарда?
— Я верю в нее, — сказал Найтингэйл жестким, вызывающим, бодрым голосом, — безоговорочно!
Чтобы разрядить напряжение, воцарившееся в комнате, Доуссон-Хилл спросил Кроуфорда, какой порядок дня назначен на завтра, то есть на вторник? Г.-С. Кларку уже передали, что его просят явиться к самому началу утреннего заседания. После этого, предложил Доуссон-Хилл, мы с ним скажем каждый свое заключительное слово.
— Звучит, по-моему, разумно, — сказал Кроуфорд.
Сегодня он увял куда больше, чем Уинслоу, который заговорил следующим:
— Дорогой ректор, должен признаться, что слово «разумно» не кажется мне самым подходящим. Насколько я припоминаю, сегодня утром я высказывался за то, чтобы этот человек без дальнейших комедий был восстановлен в своих правах. Могу я, с вашего разрешения, повторить это предложение?
— Боюсь, что все высказались за то, чтобы разбирательство дела продолжалось, — сказал Кроуфорд.
— На это я хочу указать, — возразил Уинслоу, — что мы не могли знать заранее, какой интереснейший оборот дело примет во время дневного заседания. Мне хотелось бы слышать мнение остальных членов суда.
Кроуфорд вернулся к обязанностям председателя.
— Мое мнение вы знаете, — вмешался Найтингэйл.
— А именно? — осведомился Кроуфорд.
— Оно не нуждается в повторении. Я продолжаю настаивать на прежнем решении.
— Итак, вы с казначеем, — сказал Кроуфорд Уинслоу, — высказав противоположные мнения, уравновешиваете друг друга.
— Чрезвычайно интересно! — заметил Уинслоу.
— Браун?
Кроуфорд повернулся в сторону проректора. Весь день Браун держался тихо; я никогда не видел, чтобы он так тихо вел себя на заседаниях. Записок Кроуфорду он не передавал. Сейчас, все еще сидя откинувшись на спинку кресла, он сказал с угрюмым выражением лица, но своим обычным ровным голосом:
— По-моему, мы зашли слишком далеко, чтобы теперь останавливаться на полпути. Это, возможно, как раз такой случай, когда, увлекшись мелочами, можно пропустить главное. Что же касается моего мнения, ректор, то я предпочел бы не высказывать его до среды.
— Ну что ж, — сказал Кроуфорд. — В таком случае мы встретимся завтра. — Он вдруг на глазах состарился. Голосом резким и раздраженным он продолжал: — Хотелось бы мне, чтобы между нами существовало больше согласия. А со своим мнением я постараюсь познакомить вас завтра во время вечернего заседания.
Глава XXXIV. Калека на лужайке
Он с ног до головы мужчина! — восхищенно сказала Айрин. Она говорила не о любовнике, а о сыне, который готовился в университет в закрытой подготовительной школе. Мартин, она и я сидели в понедельник вечером на лужайке перед их домом в ожидании обеда. Я только что пришел к ним. Мартин полулежал в шезлонге и, заслонившись ладонью от бившего ему в глаза солнца, посматривал искоса в дальний конец сада.
Мартин тоже говорил о сыне. В его словах звучало несравненно больше заботы, чем в ее. Он прочитал между строк письма мальчика, который писал каждую неделю, что тот чем-то встревожен, но не хочет поделиться с родителями своими огорчениями. Айрин же приняла это с веселым смехом.
— Он с ног до головы мужчина, — восклицала она. — Он себя еще покажет! Тогда только держись!