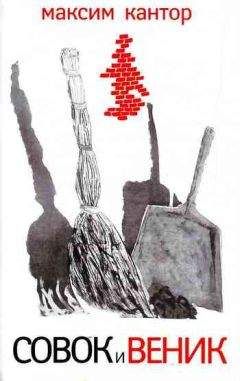С шестидесятых годов я занимал должность секретаря по идеологии Московского горкома.
Мне вспоминается разговор с молодым человеком, который называл себя диссидентом.
Кажется, он был арестован за тунеядство. Он работал ночным сторожем, но на работу не являлся; склад, который он должен быть охранять, разграбили. Судили его, впрочем, и за распространение антисоветской информации.
По стечению обстоятельств я присутствовал на его допросе и сам обменялся с ним репликами. Был он худ, с близко посаженными глазами, плохо образован и, ссылаясь в разговоре на классиков, делал ошибки.
Помнится, он крикнул мне:
– Я хотя бы протестовал, говорил «нет», а что сделали вы?
Я ответил ему, что свою заслугу видел скорее в том, чтобы говорить «да», поскольку старался по мере сил отвечать за это «да» и вкладывать в него конкретность.
Тогда он закричал: «Если вы говорите „да“ угнетению личности – вы чудовище! Какое государство хотите вы построить? Государство роботов?»
Если б я мог позволить себе смеяться, я бы рассмеялся.
Я лишь сказал ему, что говорить от имени личности может только личность. И особенность личности как раз в том, что заботиться о себе ей не свойственно. Ей свойственно заботиться о других.
Он процитировал Евангелие – не к месту и неточно – притчу о динарии. Имел в виду, что ему не дают служить истине.
Я возразил ему: «Мне кажется, вы хотите отдать Богу кесарево, а кесарю не дать ничего. Вряд ли это честно по отношению к Богу».
«Придет время, – крикнул он мне в лицо, – вашего стыда и покаяния.»
Я ответил ему, что слово «покаяние» не из моего лексикона.
Его увели. Прошли годы.
Я – ровесник века – наконец чувствую приближение смерти.
Я встречаю ее в полутемной палате, окруженный дряхлыми безумцами, под хохот медперсонала.
Империя распалась. Не удивлюсь, если мой давний собеседник возглавляет комиссию по расследованию преступлений коммунистов.
Его безграмотности хватило бы как раз на это.
Эпоха диктаторов миновала.
Империи растащили секретари райкомов, подтибрили по крохам мелкие жулики. Карту раздергали на клочья прохвосты, нетвердо знающие географию.
Вместо Гитлера и Сталина, которых можно было обожать и ненавидеть, вместо Черчилля и де Голля, которых стоило уважать, пришла мелкая шпана; ее трудно узнать в лицо и незачем запоминать фамилию.
Время утопий прошло. Проектом теперь называют спекуляцию.
Если правда, что Россия наследница империи Чингизхана, то последними чингизидами стали продавцы презервативов у знаменитых трех вокзалов.
Люди по инерции еще боятся возврата старого – их пугают великие тени. Им мнится, что придет новый тиран, который их замучит.
Для того чтобы принять мучения, следует как минимум быть мучеником; чтобы кончить трагически, надлежит быть персонажем трагедии.
Час истории миновал – и смерть от меча тирана уже никого не ждет.
Теперь мне ясно, что мировой дух завершил свое шествие не в Пруссии, а в России. Я спрашиваю себя: было ли это закатом христианской цивилизации?
Постисторическое существование чревато новыми опасностями, но они принадлежат другому жанру.
Действие трагедии закончено, декорации – по желанию зрителей – убраны с подмостков. Будет играться излюбленная населением медодрама.
Противно. Но не более того
Противно. Но не более того.
И мерзко. Но не слишком, а привычно.
Я шел по улице и думал: торжество
не удалось. Мы при своих. Отлично,
Я шел вдоль тополей, их пыльный строй,
Их руки, заведенные за спину,
Напоминал то пленных, то конвой,
Уткнувший под лопатки карабины.
Их гнутый ствол одет кривой корой,
Обряжен в арестантскую рванину.
Лежал туман и холод сжал равнину,
Покрытую, как тело простыней.
Ну ничего. Покуда все со мной,
Еще от ветра на юру не стыну,
В шеренгу не согнал собачий вой,
И жизнь пока прошла наполовину.
Куда идти? Я не хочу домой.
Я помню Антонелло да Мессина
Я помню Антонелло да Мессина
в высоких комнатах коричневого цвета,
где воздух мерз под потолком, где в спину
из форточки мне дул протяжный ветер,
где каждой гранью рисовалась даль,
где все начало, нет ни бед, ни бури,
лишь ровная и чистая печаль,
прозрачный взгляд и влажный слой лазури.
Был легок крест и неопасна рана,
и воздуха и света торжество.
Так я смотрел Святого Себастьяна,
в недобрый час я вспомню про него.
Кто устанет, тот прочь – вдоль оврагов
Кто устанет, тот прочь – вдоль оврагов, им нету конца,
По дорогам пустым, мимо красных кирпичных домов,
И подняв воротник, отвернувшись, не видно лица,
У крыльца постучит, и окажется дома он вновь.
В его комнате свет в предвечерний час ярок и чист,
Вдоль шкафов упадет, возле Данте, Шекспира и Гёте,
И когда сдуют пыль, обнажится исписанный лист,
И на старых обложках сверкнет под лучом позолота.
И он дальше пройдет, и, холсты протерев рукавом,
Повернув их к окну, убедится: они не пропали —
Только чуть натянуть, только лаком покрыть, и потом
Можно снова смотреть и трогать поверхность руками.
Нам эту стену не пробить,
Но будем биться лбом.
Нам этот ров не переплыть,
Но все же поплывем.
Вовек здесь грязь не разгрести
Ни горем, ни трудом.
И нам отсюда не уйти
Так, значит, здесь умрем.
Баллада арестанта (подражание Уайльду)
Ввалились трое молча в дверь,
Не подымая взор,
Ввалились и кулак к зубам
Притиснули в упор.
Один мне руку заломил,
Взял за плечо другой,
А третий молча заводил
Их мотоцикл ногой.
Меня еще никто не бил,
Ни слова мне в укор,
Лишь только револьвер давил
Мне ребра с двух сторон.
Не рыпайся – не то, гляди,
Мы дух твой выбьем вон.
Их взгляд самодоволен был —
Им ясен мой позор.
Я ль виноват, что этот свет
Ночной покрылся тьмой,
Как будто солнце кто-то сжал
Громадною рукой.
Мир потемнел и в темноте
С тобою схож любой,
Будь то подлец, глупец, слепец —
Так, словно брат родной.
Сидели длинной чередой,
Увиделись мы раз,
И разойдемся, лишь конвой
Под локти схватит нас.
Кто покаянно лебезил,
Расширив круглый глаз,
Кто нагло развалясь, дерзил,
Дразня последний час.
Доносчик, или мелкий плут,
Иль помесь пополам,
Им плакался и, словно шут,
Остротам хохотал —
В манеру входит веселить
Приговоренных там.
И каждый опер кажет прыть,
А каждый жулик – срам.
На желтой крашеной скамье
Обриты наголо
Так хохотали, словно им
Отчаянно свезло —
В милицию пришли, к родным,
Где сытно и светло.
Мол, все мы здесь в одной семье
Коль уж на то пошло,
Свои не делают своим
Обдуманное зло.
Мол, это все одна игра —
Бежать и догонять,
Вы не серчайте, опера,
Я свой, я просто тать.
Ребята с одного двора
Как мне вас не понять?
Вам пошутить пришла пора —
А мне похохотать.
Мол, не судите сгоряча —
Не бейте по лицу,
Вы превратите в стукача
Заблудшую овцу.
И тот, что диким был вчера,
Готов сапог лизать,
Они смотрели операм
Искательно в глаза:
Мол, подскажите, что еще
Здесь надо подписать?
Мол, коли буду я прощен,
Продам родную мать.
Давайте будем заодно:
Мы все один народ,
Мы месим общее говно,
Мы все идем вперед,
А если парень пошалил,
Так с возрастом пройдет,
Моральных поднакопит сил
И в колею войдет,
Такой же, как и мент, дебил —
Империи оплот.
Одни домой уйдут быстрей
За свой трусливый вой
В унылый встанут строй людей
Другие за разбой.
Но если все одна семья
И виноват любой,
Как угадать, который – я,
И кто стоит за мной?
Как угадать, кого судить,
Коль мир покрылся тьмой?
Раз не желаешь в стае выть —
Не попадешь домой.
Они хватались в темноте,
Не сделавши шага,
За что попало в пустот,е
И не нашла рука.
Слепец слепца ведет во мглу,
Подняв трусливый вой.
Здесь мудрено искать иглу —
Хоть глаз коли иглой.
С земли до неба белизны
Глаз застилает мглой —
И только в камерный волчок
Увидишь свет дневной.
Я с вечера решил нарезаться
Я с вечера решил нарезаться,
И нынче вышло все по-моему:
В ногах еще остатки резвости,
Они несут к ведру помойному.
Осточертела жизнь степенная,
Мне дорога она изъянами —
Окурками, пивною пеною,
Что на штаны сдувают пьяные.
Чем жизнью жить на вас похожею
И чувств постыдных не стыдиться,
Уж лучше в грязь свалиться рожею,
И до бесчувствия напиться.
Не сумев полюбить ни погоду, ни почву, ни власть