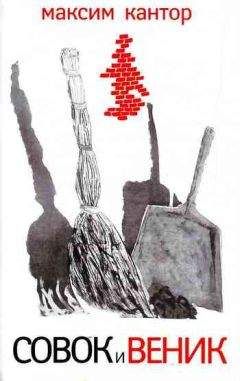Не сумев полюбить ни погоду, ни почву, ни власть
Не сумев полюбить ни погоду, ни почву, ни власть,
Не желая увидеть в грядущем просвета,
Не имея нужды что распущено заново прясть,
Предаваясь раздумьям (мне свойственно это),
Я сижу на диване, закутавшись в плед, и курю.
Мне немного тоскливо, за окнами сырость.
Ветер воет под дверью и резко кричит «улю-лю».
И вообще мне тревожно, как будто бы что-то случилось.
Так и в детстве бывает: ты сам не поймешь почему,
То ли тучи сгустились, то ли тебе одиноко,
То ли ты простудился, и ветер гуляет в дому,
Ты сидишь и дрожишь над стаканом томатного сока.
Вот на лестнице шум, и я знаю, что это конец.
И так долго играл, что не скажешь уже «не играю».
Мне в прихожей надвинут на брови походный венец —
Шерстяную беретку с терновым отливом по краю.
Зазевался, а вы уж решили, что ваш
Зазевался, а вы уж решили, что ваш,
Что конец, коли к стенке приперло?
Но теперь надоело, довольно, шабаш.
Я не дам перерезать мне горло.
Я не дам перерезать мне горло за так —
Оттого что попал в живодерню,
Оттого что мне шкуру разметил скорняк,
Оттого что здесь выжить зазорно.
Вам в привычку вошло безнаказанно бить,
Вы для каждого знаете цену.
Деться некуда, загнан, и впору завыть —
Я лопатками чувствую стену.
Но хрипя, дыбя шерсть, окровавя белки,
Я еще отплачу, как умею.
Я умру, как собака, сжимая клыки,
Разрывая противнику шею.
Вдоль зеленого поля сощурясь глядел,
Повернее мишень выбирал,
И учился, как здесь выверяют прицел,
Здесь расчетливо бьют, наповал.
Я к ним в гости был зван, и пришел отдохнуть,
И меня занимала игра,
И я бил с наслаждением в желтую грудь
И следил за полетом шара.
И меня забавляло: средь бывших вокруг
Кто поверить бы смог и узнать,
Что на шее моей уже сходится круг,
Что меня уж велели сыскать.
Вот теперь мне конец, я над лузой завис,
Это верный, рассчитанный шар.
Вот такие точь-в-точь и собьют меня вниз,
Мастера на красивый удар.
С ними нынче легко – про театр и кино,
Про свободу и совесть болтать.
А вскочить бы – и разом в лицо все вино…
И, смеясь, продолжал я играть.
На песню уголовника хмельного
На песню уголовника хмельного
сбегались из подъездов, а с окон
смотрели как с зубами вместе слово
вбивал ему прикладами закон.
Растерзанный, взлохмаченный и пьяный,
он шел, не понимая, меж двоих.
У нас в ушах стучали барабаны,
а он, шатаясь, пел похабный стих.
И каждый раз, когда приклад со стуком
прокуренные зубы вышибал,
к стеклу мы жались побледневшим ухом,
а он лишь, ухмыляясь, напевал.
Никто из нас тогда и не подумал:
за что его – попойку иль грабеж?
Не понимая, пел бандит под дулом,
и нас за окнами бросало в дрожь,
Быть может он был вовсе невиновен,
и спьяну боли не воспринимал.
Мы вслед глядели, как он под конвоем
в соседний переулок ковылял,
И долго нас дразнила брань пьянчуги,
беззубый и отчаянный оскал.
Он не искал защиты и услуги —
и каждый безотчетно ревновал.
Вор закрыл глаза и бежал,
Ожидая свинец.
Он не видел ружейных жал,
Просто понял: конец.
В жизни видел немного он:
Лишь барак да забор,
Лишь ворон, решетки окон,
Охраняемый двор.
На бегу часовой стрелял
И потом еще раз.
Он не слышал, как вор кричал,
Только слышал приказ.
В жизни слышал немного он:
Только скрип сапогов,
Офицерских стаканов звон,
Треск разбитых зубов.
Повернулся, спустил затвор,
Сигарета у губ.
Чертит воздух стая ворон
И кричит, чуя труп.
Если бежишь тайгой,
Если увяз ногой,
Ниже пригни хребет,
Знай, что спасенья нет,
Не пощадит часовой.
Он как и ты – лишь раб,
Он как и ты – ослаб.
Воздух холодный грудь
Давит – не продохнуть.
Рвется наружу храп.
Голову в плечи врой.
Слышишь собачий вой?
Слышишь затвора лязг?
Ты не уйдешь, земляк.
Некуда деться. Стой.
Послушай, парень, посиди со мной
Послушай, парень, посиди со мной,
Осточертело жаться в угол в страхе,
Не все ль равно, что ждет меня конвой,
Не все ль равно, что я сгнию в бараке?
Послушай, что тебе я расскажу,
Что накатали обо мне писаки.
Не все ль равно, куда попасть ножу,
Когда ты знаешь, что сгниешь в бараке?
Один ко мне подходит раз в пивной.
Одет прилично, щеки словно маки.
По разговору я решил: блатной,
Но после понял, что сгнию в бараке.
Я бил его об стойку головой,
Вперед наука, думаю, собаке.
Потом уж увидал в дверях конвой,
Потом-то понял, что сгнию в бараке.
Я побежал, мне бегать не впервой —
Всю жизнь играл в разбойники-казаки.
Однако сколько не петляй кривой —
Спрямится, да и выведет в бараки.
Мне жаль тебя, бедняга часовой,
Как трудно беглеца убить во мраке,
Как холодно искать его тайгой,
Чтоб потеснились мертвецы в бараке.
Ведут их тесной тропкой на убой,
Кого за просто так, кого за драки,
Ты должен быть к сомнению глухой,
Когда ведешь преступников в бараки.
Они же братья, кровь одна с тобой,
Между собой грызутся лишь собаки.
Но если кто и свалится порой,
наплюй – им все равно идти в бараки.
В улыбке ровный белый ряд зубов
В улыбке ровный белый ряд зубов
он обнажил, но с фиксою из стали.
Его ладони локоть мне сжимали,
Вывертывали руку. Я потел,
Согнувшись вдвое, под ноги глядел,
Туда, где листья мокрые лежали.
Был листьями облеплен мой башмак
И, поневоле ускоряя шаг,
Я замечал, как листья отлетали
И веером стелились по земле.
Я также видел стаю голубей
Что с жадностью на крошки налетали.
Лишь это, да развязанный шнурок
(он в луже мок и путался у ног)
Торжественность минуты нарушали.
Вот и арест, я ждал его всегда
И гнал судьбу, и не жалел труда,
Предчувствовал и вчуже был взволнован.
Я знал, меня не минет этот крест,
И в гордости я торопил арест,
Ну а теперь слегка разочарован.
Шагали в ряд пятнадцать пар
Шагали в ряд пятнадцать пар.
Хрустели сапоги.
Мороз. У рта крутился пар,
И не видать ни зги.
След в след печатая в снегу,
Я думал: как на грех,
Идти я дальше не могу.
Шаг в сторону – побег.
Веренице гробов дал сигнал и свисток,
Сотрясая железный костяк,
Заплясали вагоны, спеша на восток:
Расстояние – это пустяк.
Мы мертвы уже здесь, у вагонных дверей —
Смертью полон тугой вещмешок.
И костлявые руки разлили портвейн,
Сберегая загробный глоток.
То ли лязг буферов передался зубам,
То ли спьяну качает вагон,
Но в испуге плечами мы жмемся к плечам,
Провалившись в спасительный сон.
Но сквозь сон эшелон нас уносит во тьму,
Но сквозь сон знаешь сам – ты исчез.
Километры нам судьбы сгоняют в одну
И подводят ее под обрез.
Куда ни кинься – деться некуда
Здесь тесно и стекло заплевано
Тоска и скука. Эка невидаль —
Что пялиться в окно вагонное?
Куда свернуть – какая разница?
Здесь все похоже до отчаянья.
Не все ль равно куда отправиться —
Везде равнина и окраина.
Так проползал состав дома, дворы
И пустырей глухие паузы,
Кирпично-красные брандмайеры
и пропыленные пакгаузы,
Так шли фабричные строения,
Кривые блочные бараки,
Так я смотрел до отупения
Упершись взглядом в буераки.
Неужто эти расстояния
Уже наполнены тобою?
Хоть поезд прет по расписанию,
Но это назовут судьбою
Неправда, будто ты один такой,
Живущий по ошибке шалым.
Нет, каждый здесь завинчен винтиком,
Все пересчитано по шпалам,
Я думал: если б был хоть пьяненький,
А так все ясно – предположим я
Самонадеян. Жизнь не пряники,
Нас горьким опытом стреножило.
Подохнешь, в угол впертый мордою,
Обратный путь тебе заказан,
Вдыхая трупный запах родины,
Смакуя по глотку заразу.
Сумей хотя бы в зубы лиху дать.
Сумей быть тверд, покуда груз есть.
Ну, успокойся, нету выхода.
Надежда – это даже трусость.
Жизнь проходит как боль —
Чуть отпустит, пора хоронить.
Не бросай, не бросай меня!
Выбирать, так изволь —
Мне противна дешевая прыть:
Я хочу быть убитым у знамени.
Как удавка на горло —
Любой прибежит потянуть.
Не бросай, не бросай меня!
Меня к стенке приперло,
Нечистый занес в эту муть —
Я хочу быть убитым у знамени.
Я не верю в тебя,
Я один, и не надо руки,
Не бросай, не бросай меня!
Пусть судьбу торопя,
Мы увидимся раз – вопреки.
Я хочу быть убитым у знамени.
Мы с ним сродни, мы курим трубки