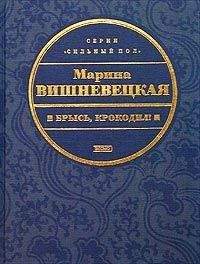– Барышни, отдыхайте!– нежно – Семен.– Пиво, барышни! Между прочим, есть рыбий хвост. Между прочим, Томусик, торчит из-под твоей левой пятки. Будь! Бывай!– это вслед мне, наверно.
А я отошел уже, стало быть. И сюда не долетает мой голос.
– Хорошо!– Аня громко, в ответ? Чуть темнее, чем было! Это странно.
Я там ухожу… Интересно, налево или направо? Мы ведь встретиться можем! Впотьмах, если будет вот так же темнеть. Разминемся?
– Если это Галактион!..– оглушительный вопль.– Скажите, что я здесь одна, что без мужа! Иначе он ни за что не пойдет!
– Ути хосподи, масик какой застенчивый!– канючит Семен.– И твой, Нюха, тоже… И нудный какой – у-у!
– Мой – нормальный!– (Анюша, спасибо.) – Только доверчив не в меру. Сейчас ему Севочка тоже навешает на оба уха лапши, а мой дурачок и поверит. Приведет и скажет: «Встречайте, я автора вам привел! Старомодный, но вечный финал: бог из машины!»
– А Севочка: процесс пошел?– Семен, взяв октавой выше.– Пошел? Пошел… А пошел он!..
Смеются. Анюша всех громче. Вот уж это она умеет. Отсмеялась, но по инерции весело:
– Что там с ядом крысиным-то за история?
– Вы в Норильске травились?!– Тамара победно.
– Я травилась?! По-моему, это вы в Москве!..– Нюша в раже.
– Кто – я? С чего бы?! Семен, ты слышал?
– Ведь пиво же, барышни! Пиво и звезды! Желаете – морские, желаете – небесные.
– Кто вам мог сказать такую глупость?– Тамара.
– Всёвочка и сказал!
– Ой, как беззастенчиво-то, Анна Филипповна!
– И построим мы с вами, барышни, домик из одних морских звезд. Точно пряничный. Маха моя махонькой ой как эту сказку любила! И станем в нем жить-поживать, дурью маяться!
– Да знаете ли вы, вы оба, как Севка дочку хочет до сих пор? И что он делает ради этого буквально каждую ночь!
– Томусенька, что же ты ему не объяснила, что такое ой не каждую ночь сделаться может? Ну, ты прорва, ну, ты лярва!
– Лярва по-итальянски – личинка,– едва слышно Аня.
– А пиявка по-итальянски как?! Можете не отвечать! Я вообще предлагаю без Геннадия, одним словом, пока мы вне контекста, воздержаться от слов!
– Просто, молча, друг дружку за волосы потаскать?– хмуро Аня.– Я все поняла! Корыто – это купель. А воды нет. Вода ушла в песок. И ждем мы не Мессию, как, с точки зрения автора, должно, а Всевочку ждем. Вот придет он, и снова будет весело, небывало, надзвездно!..
– Это только евреи Мессию ждут! Да, Семен? Нам еще этого не хватало, чтоб о нас, чтобы нами… какой-нибудь Розенцвейг!– деланный Тамарин смешок.– Семочка, не сердись. Но посмотрим правде в глаза! Быть первоклассным поэтом, переводчиком, музыкантом – можете! Тут я готова снять шляпу! Но проза – это слишком глубинное и исконное дело. И инородцам при всем их желании…
– Инородец, Томусенька, это такое инородное миру тело, которое куда ни помещай – а вот везде ему инородно. От обалдения он и малюет – чернилами, красками… Иногда даже очень народно! Ну, уж это – как Бог даст…
Что-то Анюша моя там примолкла.
– Как Бог даст?! В этой фразе – ты весь! Ладно. В качестве гипотезы я готова обсудить и это… Но только тогда, когда вернется Геннадий!
– Никогда не вернется Геннадий,– нахально Семен.
– Почему?
– Надоел потому что. Все ему расскажи!– и опять там хлебает.– А если в рождении моем – тайна, а в томлении – неисповедимость?
– У нас одна женщина убирается в архиве,– вот и Анюша, тихо-тихо.– Говорит, ее сын в морг устроился. И к ним из абортария каждый день зародышей привозят. Так вот они их спиртуют и дарят друзьям. Говорит, самый прикольный подарок ко дню рождения. Называется «Вася в детстве» или «Не ждали!» или «Недолго мучилась девчушка».
Она думает, что ее голос спокоен и в меру насмешлив. Нюша, Нюшенька! Хвост морковкой. Я приду. Я уже к вам иду. Только зря вот темнеет. Очевидно, от этого кусты кажутся гуще и непролазней. Не-об-ходимей! Ничего, обойду.
Я вернусь от пустого корыта и скажу, что я видел… себя. Того себя, который сидел у разбитого корыта – тот я, который, Анюша, у тебя на посылках. Ну, а если мы все же встретимся: я и я – и вернемся вдвоем, я скажу, что один из нас автор, а другой – образ автора, ну-ка, ребята, скорей отыщите десять различий! Тамара от этого перевозбудится до безобразия: Онегин, добрый мой приятель… но вреден север для меня!.. Торжество национальной традиции! Ну конечно же! Левый Гена и площе, и бледней, а вот правый – он настоящий!.. Расскажите скорей, правый Гена, как у вас это все родилось, ай да Пушкин, ай да сукин сын, ведь это он, он вас вдохновил, не отпирайтесь!.. Но ведь были и иные влияния, не говорите, я хочу угадать сама!.. Вэ Одоевский? Пиранделло?!
Лучше просто приду и скажу: «Я все понял! Корыто – купель! (Нюша вскрикнет: „Что я говорила?!“) Но вода не ушла. Вода есть. Я летел, и я видел ее!» Аня, мешая восторг с изумлением, замотает головой, а глаза неподвижно зависнут… у ее глаз есть удивительное свойство – парить в пространстве еще несколько мгновений, даже после того, как сама она отвернется. Не уверен, что она дотерпит до рассвета. Ей захочется немедленно встать, и пойти, и найти эту воду, чтобы всем вместе войти в нее! Как Саша Дванов?
В «Чевенгуре» есть чудная рифма к «Двенадцати»: чевенгурская голь объявляет наступление второго пришествия и тут же приступает к расстрелу местной буржуазии – со словами: «Они его сами хотят, пускай и получают».
Горячечное ожидание конца истории, подменившее собой религию самоустроения и самоочищения – вот это и есть наше все. Наша почва. И какие семена в нее ни брось, вырастет то же:
Для вас – века, для нас – единый час.
Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы (ить мы!).
Или же – если вкратце:
Впрочем, ведь я еще раньше хотел дать какую-то сноску. Забыл!
Аня хочет креститься. Она говорит, что «страх Божий» – это единственное, что удержит ее от того, что она уже делала дважды. Но об этом я расскажу в своем месте и – как можно подробней. Потому что сама она, подозреваю, оговорила себя и наверняка – с упоением! Что бы Нюша ни делала – моет ли она окно, дерзит, ест ли арбуз, корчит рожицы или поносит нечистоплотность соседки,– это всегда акт бытийный – акт, в который она вовлечена вся целиком. Без этого предуведомления, а впрочем, вероятней, что – послесловия, будет трудно понять ее главу.
А иначе – зачем бы я здесь? Фиксировать обрывки чужих фраз?!
Все труднее не наступать на водоросли. И на звезды! (Это что же – метафора?)
Мысль держать все трудней!
В самом деле! Мой голос – в неведомо кем сочиняемом романе! Потому ли, что в собственной прозе он едва различим?
Обо что-то… Ворох! Ворох листов. Но стемнело настолько!.. Так, посмотрим. И текст совершенно слепой! Не иначе шестой экземпляр!
«Эта жалость – могущая вырваться вдруг из горла – отчего она? Я не так уж и жалок! Я всего только смертен. Я вижу это – я впервые вижу это! Его конечности подрагивают, точно в тике, о котором я столько мечтал… Тело – это конечность. Я отваживаюсь снова поднять глаза. Мы бессмертны, пока мы не видим себя… так. Он протягивает мне брошюру. Я ему – по зеркальной привычке – Мандельштама (я год издания ведь хотел посмотреть!.. он посмотрит?). И уже не понять, как взялась здесь Тамара. Шумно дышит, стремянка прижата к груди…»
Это Всевочкина глава! Ну конечно! Аня когда-то мне говорила, что он еще в школе от руки переписал чуть не всего, тогда совершенно ведь недоступного Мандельштама. Все, поплыли слова. Я ведь тоже когда-то о тике мечтал…
Да! Вот это находка. Сотни полторы страниц! Аккуратно сложить… И дождаться рассвета! И понять наконец… ну, хоть что-то понять! Чем лицо о колючки, можно будет на мягком вздремнуть. Жаль, что я разорвал тот листочек с «Устами Лидии». Ну да что уж теперь? Утро вечера мудреней. Да, мой собственный голос… когда стихли все прочие голоса – не пора ли подать? Вот что я расскажу для затравки.
Лет, наверное, в семь или в восемь, засыпая… здесь, наверно, надо оговориться, что все наше детство прошло под фильмы про фашистов… Так вот, уже натянув на ухо одеяло, я себе говорил: пришли фашисты, и главный из них приказал убить одного человека из вашей семьи, но решить должен ты, кого именно, можно и Джильду. Джильдой звали дворняжку, умнейшую рыжую псину, которая, когда я только начинал думать о ней, уже поднимала на коврике ухо! Бабушку было не то что жалко меньше других, но она ведь свое пожила!.. Значит, бабушку выводить? Сердце мое разрывалось. Ведь Джильда – собака, и честнее, как Павлов,– ее?! Мне делалось трудно дышать, я не плакал, но нос набивался соплями… Чтоб не выдать себя, я тихонько сморкался в край простыни. Джильду я не мог им отдать ни за что! Значит, маму?! Насколько я помню, моя собственная персона в жутковатом этом отборе участия не принимала. Весь ужас игры как раз и был в том, что я решал за других, я распоряжался другими! Иногда вместо фашистов приходили басмачи, тогда условия могли меняться: они согласны были просто отрубить кому-нибудь из нас руку и ухо или же Джильде – две лапы и язык,– ну, Гена?