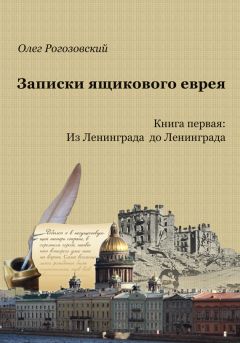Снаружи донесся сильный стук: нетерпеливые покупатели рвались в магазин.
Завмаг Люба двинула стулом, готовая к сближению с покупателями.
— Успокойтесь, — шепнул Пал Палычу журналист, — он не будет вас бить.
— За советскую торговлю! — провозгласил Пал Палыч, опрокинул рюмку в рот и выметнулся из-за стола.
Через несколько минут журналист нашел его за штабелем дров.
— Ну что? Угомонился наш ревнивец? — с улыбкой, но несколько нервно спросил Пал Палыч.
— А разве он буйствовал? Терпеливо сносил ваше хамство.
— Откуда мне было знать?.. Вам кто сказал?..
— Никто. Это и слепому видно. Но вы настолько эгоцентричны…
— Я увлекающаяся натура! — перебил Пал Палыч. — Ладно. По-моему, я здорово запудрил им мозги. Кстати, вы не обратили внимания: напротив нашей избы целый день в окне — очаровательная мордашка. Спелая рожь, молоко, васильки. Если б не чисто русский тип, то, ей-богу, Ренуар…
— Успокойтесь. Это жена младшего Демина.
— С ума сойти! — взвился Пал Палыч. — Братья-разбойники! Расхватали всех лучших баб. А мне что — на Дусю кидаться? К черту!.. Вы домой?.. Я хочу заглянуть в Божий храм…
— …Слушай, — сказал Демин Лизе, — я приду сегодня.
— Боюсь, сын приедет.
— Да что он — маленький, не знает?
— Знает, конечно, — вздохнула женщина. — Все знают… Может, другой раз?
— Смотри… — сказал Демин, отводя глаза, налитые тоской.
— Ты что? — спросила она озабоченно. — Неужели из-за этого таракана?.. — Она прыснула. — Господи, да по мне!..
— Нет, — сказал Демин. — При чем тут этот?..
Он не знал слов, чтобы сказать о том, что его томило. А слова были простые, как трава, но не шли на ум.
— Так чего же ты?.. — допытывалась Лиза.
— Не знаю… Давай поженимся.
— Еще чего?.. — Ее яркие скулы побледнели. — Мой поезд ушел. Найди молодую. Тебе дитя нужно. Слушай… ладно, может, Колька и не приедет…
* * *
…Лишь во второй половине дня, прихватив гостинцев для изнемогающих в заброшенном Пёрхове старух и забрав Жорку, Демин отправился за дальним сеном. Немного распогодилось, в небе появились синие промоины, и в них, будто истосковавшись по земле, лупило солнце. Шевельнулась надежда, что, вопреки мрачным прогнозам метеослужбы и бушующему над Тянь-Шанем антициклону, погода установится. Уж больно хотелось этому верить, ведь что ни год, то потоп, то засуха, и вообще не стало ровного, справедливого на дождь и вёдро лета. Можно впрямь поверить старухам, что продырявило кровлю над землей, отчего не стало защиты от всякой вражды.
По дороге Демин поведал брату о своей встрече и разговорах с председателем. Из всего услышанного Жорка заинтересовался лишь тем, что касалось дорог, и сразу стал тереть свою черепушку. Демин уже жалел, что коснулся запретной темы, вредно это для Жорки.
— Значит, он так ни черта и не понял? — морщась, спросил Жорка.
— А чего понимать-то?.. Он человек зависимый, что прикажут, то и делает.
— А вот Миликян из «Богатыря» взял да и построил дорогу. И никого не спрашивал. А «Богатырь» сейчас — лучший колхоз в области. И молодежи в нем полно.
— У Миликяна высшее агрономическое образование, его где хошь с руками оторвут. Да и в Армении полно родни. Чего ему бояться? А нашему Афанасьичу коли дадут по шее, уже не встанет.
— А ты думал, братуша, — сказал Жорка с каким-то странным светом в дымчато-голубых, как у младенца, глазах, — что на войне люди погибали не только за Москву или Ленинград или за взятие рейхстага, а за безымянную высоту, за речушку, вроде нашей Лягвы, даже за болотную кочку?
— Ну и что?
— А то… Почему мы сейчас так за себя боимся? Ну, снимут с работы, ну, еще чего… Подумаешь!.. Ради стоящего-то дела, а?.. То, вишь, и речушка, как кот насикал, и болотная кочка столь для родины важны, что жизни не жалко. А сейчас, выходит, нету вообще ничего такого, за что пострадать не страшно?
Демин жалел, что затеял этот разговор. Он не знал, может ли доказательно возразить или всякие возражения хитры и ничтожны, а настоящая правота у Жорки, но знал, что разговор этот брату вреден, и попытался все свести к шутке:
— Постой, ты же завязал с дорогами?
— Да ну, глупость какая! Сказал со злости… Не будет дорог, не будет улиц — и ни хрена не будет. Сам же понимаешь.
Огромная лужа, обдавшая лобовое стекло мутной водой, избавила Демина от ответа…
…К удивлению братьев, в покинутом Пёрхове занялась какая-то новая, странная жизнь, посторонняя тем древним местным сельчанам, которые еще теплили свою свечу. Пёрхово давно уже отключили от электросети, сняли со снабжения продуктами и хлебом. Но деревня не померла. Тут обосновались, пусть временно, сезонно, пришлые из города люди. Они населили покинутые избы, затопили печи, чего-то посадили в огородах, очистили их от сорняков, развешали белье на веревках. Не очень понятно было, как они добирались сюда, но добирались и за это пользовались здешним чистым воздухом и здешней тишиной, добрым лесом, прозрачным мелководьем Лягвы, купались, ловили рыбу и раков; наверное, об них грелись и местные старухи, чего-то им перепадало от пришельцев, и, видать, не так уж бедно, коли дары Демина были приняты хоть и благодарно, но без надрыва.
Эти перемены особенно удивляли старшего Демина: недели полторы назад, когда он косил тут, то не приметил какого-либо оживления, деревня покорно сползала в смерть.
То ли городские еще не съехались, то ли в погожий день все были на речке, в лесу, то ли ему застило зрение. А Жорка взыграл и, склонный к радению о народной пользе, уже трудил свою больную голову, как надо было бы использовать Пёрхово. Объявить его дачной зоной и сдавать дома от колхоза, создать базу для грибников и ягодников и, обратно, взимать за аренду, оборудовать привал для рыбаков и охотников, тоже, разумеется, не бесплатный, а все вырученные средства пустить на дорожное строительство. В одержимости Жорки было что-то пугающее…
Рассуждения брата и оживленный вид Пёрхова нарушили привычные грустные связи Демина с тем местом, где прошли его детство и юность, где он навсегда угадал Талю в стае веснушчатых, белобрысых, голенастых девчонок и где навсегда же ее потерял. Но это длилось недолго, слабые приметы новой жизни и оживляющие пейзаж фигуры новоселов смазались, истаяли и Жоркины речи, он опять видел заросшую бурьяном, лопухами тихую сельскую улицу — в ее запустении была опрятность, палисадники, лавочки, яблони, свешивающиеся через плетни, — свой старый, нежный мир. Но возвращение прежнего Пёрхова вместо привычной сладкой тоски принесло острую, неудобную боль. Наверное, это связывалось с явлением Тали на дороге: как безнадежно изжился образ, который он нес сквозь всю свою жизнь! И ведь так же — со стороны — износился и он сам, без толку истратив себя на ожидание, на дурную упрямую игру в надежду, не желая понять, что назад дороги нет, что нельзя дважды вступить в одну и ту же реку. Даже Пёрхово, заторопившееся к исходу в последние годы, обнаружило животворные силы с появлением новых людей. Как же мог он так закоснеть, залениться омороченной душой, покорно выпуская из вялых пальцев время, которое не вернуть?..
Ему захотелось скорее к Лизе. Гонимый потоком, не дающим вглядеться в лик ускользающего бытия, лишь уцепившись за нее, как за прибрежный тальник, за ветвь плакучей ивы, сможет он остановиться, очнуться, а там и выбраться на прочный берег. Но между ним и Лизой было еще много непрожитого делового времени, неубранного сена, недоезженных километров. И он покорно и мощно принялся сваливать влажное сено в кузов грузовика…
А солнце, похоже, всерьез укрепилось в небе. Светило вовсю, лишь изредка задергиваясь скользящим облачком, и пока они работали, и пока отвозили сено, и пока Демин медленно, задом, подавал машину в узкий двор, и пока скидывали сено, и пока он отводил грузовик на машинный двор, а на пути назад, раздевшись до сатиновых трусов, отмывался с мылом и мочалкой в холодной Лягве, — и тут поверилось, что это навсегда. Солнечное тепло хорошо растекалось по остывшему телу, неохота было одеваться. Какое же благо — великое и живительное — доброе летнее солнышко! Демину захотелось прочесть какие-нибудь стихи о солнце, в школе он их много учил: «Солнце зеленеет…», да нет, какого хрена ему зеленеть? «Травка зеленеет, солнышко блестит…» А дальше забыл. Как и все забыл, чему в детстве учился. Не помнит он стихов ни про солнце, ни про Евгения Онегина, ни про Анну Каренину. Надо достать «Родную речь» и все насквозь перечитать, а стихи выучить наизусть.
И чего он так взбодрился? Оттого что светит солнце? Или, смыв с тела грязь, пот и пыль, он заодно с души смыл что-то дурное, липкое, что таскал не день и не год?
— Инженер! — послышалось с того берега. — Егорий мне наряд закрыл. Не возражаешь?
Там стоял знаменитый шабашник-печник Звягин, которого позвали складывать печи в домах для доярок. Звягин был знатный мастер, его печи сроду не дымили, не гнали угара, а тянули так, что чуть ли не утягивали поленья в дымоход.