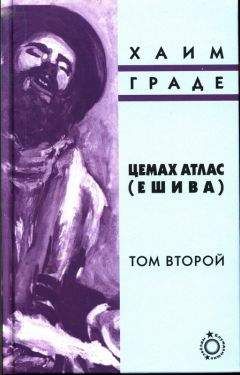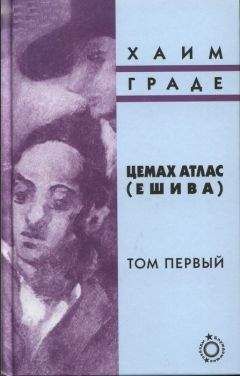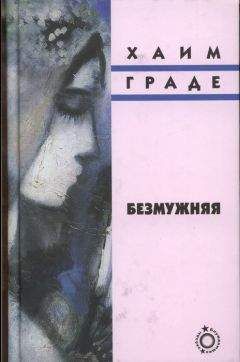— Пошли!
Мальчишки заметили, что реб Янкл взял из коридора, ведшего в кухню, большую метлу. Но никто не спросил, зачем ему нужна метла и куда они вообще идут. Реб Янкл учил их, что ищущий пути должен верить главе своей группы так же, как верит в слова мудрецов, и не задавать лишних вопросов. Поэтому ищущие пути шагали за ним, размахивая руками и фыркая, но не раскрывая ртов. Реб Янкл шел так быстро, что они едва поспевали за ним. Под мышкой слева он нес метлу, а правой рукой держал Мейлахку, словно боясь, что тот может снова сбежать.
Переулки были застывшими, тихими и пустыми. Домишки стояли группками, прижимаясь друг к другу, будто боялись, что оторвавшийся от этого занесенного снегом деревянного сообщества заблудится и не сумеет найти обратного пути в темноте. От страха Мейлахка, одетый в теплое пальто, ощутил холод во всем теле и сразу же увидел, что страх был не напрасен. Реб Янкл остановился рядом с каменным домом реб Зуши Сулкеса. Из закрытых ставнями окон просачивался свет, доносились веселые голоса. В доме старосты благотворительной кассы еще сидели за трапезой.
— Наступило время, когда мы должны показать свое мужество перед лицом этого наревского Амана, как праведник Мордехай показал свое мужество перед лицом Амана, сына Хемдаты из стольного города Сузы. «Не встал и не двинулся!»[186] — воскликнул реб Янкл и напомнил ученикам, что из-за старосты Сулкеса ему, главе группы, пришлось покинуть Нарев и никто из них не работал над тем, чтобы не бояться окружающего мира. Прямо сейчас надо сделать нечто такое, чтобы Нарев содрогнулся, а новогрудковские искатели пути во всем мире зачмокали бы губами от восхищения.
Мальчишки все еще не знали, что собирается сделать их предводитель, но были готовы на все. Один Мейлахка стоял с отнявшимися руками и ногами. Он хорошо помнил, как староста благотворительной кассы выставил его, когда он пришел к нему на субботу.
— Берите метлу и не дрожите! — прорычал реб Янкл, и Мейлахка взял метлу обеими руками, как богобоязненный еврей берет лулов.
Реб Янкл впихнул его в прихожую вместе со всеми, а сам прыгнул вперед, стремительно и смело распахнув дверь во внутренние комнаты.
В просторной столовой во главе стола восседал реб Зуша Сулкес. По обеим сторонам сидели члены его семьи, дети и внуки, невестки и зятья, а также пара важных обывателей, зашедших по окончании трапез в собственных домах посидеть за столом у старосты. Стол был завален и заставлен объедками, тарелками с недообглоданными куриными костями, блюдечками с разгрызенными абрикосовыми косточками из компота, наполовину выпитыми стаканами с сельтерской водой, кусочками и крошками халы и калачей, жесткими, подгоревшими уголками съеденных гоменташей[187]. Свет свисавшей с потолка электрической лампы и догоравших свечей в подсвечниках искрился в пустых винных бокалах и в налившихся кровью пьяных глазах. Хозяин в ермолке на вспотевшем затылке и с салфеткой, заткнутой за воротник, повернул голову ко входу — и остался сидеть с раскрытым ртом. Его домашние и гости тоже выпучили глаза на молодого человека и окружавшую его компанию. Все знали, что этот ешиботник — заклятый враг реб Зуши.
— Веселого Пурима! С праздником! — весело воскликнул Янкл-полтавчанин, и мальчишки хором подхватили вслед за ним:
— С праздником! С праздником!
— Веселого праздника, доброго года! — ответил реб Зуша, медленно вставая и глядя на них с подозрением.
До этого момента он понятия не имел о том, что изгнанный мусарник вернулся в Нарев. Он не собирался мириться со своим кровным врагом. Однако, поскольку тот вошел к нему в дом вместе со своими ангелами-разрушителями, большевиками с той стороны границы, старосте благотворительной кассы не подобало его выгонять.
— Я и мои ученики принесли вам шалехмонес[188], — еще веселее воскликнул мусарник.
— Вот как? Шалехмонес? Так что же вы стоите в дверях? Входите, входите. Вы у меня неожиданные гости. Шалехмонес? — заговорил хозяин, удивляясь все больше и больше.
— Да, шалехмонес. А в качестве нашего посланника мы выбрали того самого виленского сына Торы, который ел у вас по субботам, пока вы не вышвырнули его из дома и не избили, как вы вышвырнули из своей лавки и избили до крови других сынов Торы, потому что они вступились за вдов и сирот.
Янкл-полтавчанин вытолкнул вперед Мейлахку, державшего обеими руками метлу. Однако, увидев, что тот стоит окаменев, полтавчанин вынул из его рук метлу и передал ее старосте:
— Это — наш шалехмонес. Выметите ленивых невесток и дочерей из вашего дома, выметите кражу и грабеж из вашего дела, вычистите помойный ящик, которым стало ваше загнившее сердце! — И, как подобает по обычаю в Пурим, Янкл закончил свою речь рифмованными строками: — Вы очень долго старостою были, много награбили и многих людей избили!
Домашние реб Зуши сидели в оцепенении, его гости не верили своим глазам и ушам. С минуту из-за воцарившейся в доме тишины было слышно, как щелкают фитили оплывающих в подсвечниках свечей. Потом вокруг стола возникло какое-то движение, кто-то из гостей испуганно хохотнул, как бы пытаясь загладить неловкость:
— Пуримшпилеры!
Только тогда хозяин немного пришел в себя, хотя все еще не мог выговорить ни слова. Сулкес поднял руку и дал мусарнику звонкую пощечину. С побледневшими лицами и горящими глазами мальчики бросились на старосту благотворительной кассы, готовые разорвать его на куски и погибнуть ради Имени Господнего. Но реб Янкл остановил их. Его лицо светилось радостью от полученной оплеухи, словно он нашел клад. Было очевидно, что своими железными ручищами Янкл-полтавчанин способен выжать из старосты сок, как из лимона. Но вместо этого он весьма галантно поклонился и сказал:
— Спасибо, большое спасибо за этот шалехмонес, который вы дали мне в ответ на мой. — И проворно вышел из дома вместе со своей компанией.
Мейлахка-виленчанин понял, что глава группы специально показал ему, что способен проявить еще большее мужество, чем требует от учеников. Поэтому сразу же, как они вышли на улицу, Мейлахка бросился к нему:
— Ребе, простите меня!
— Прощаю полностью и целиком, сейчас же и безотлагательно! — искренне и щедро ответил реб Янкл и велел ученикам ничего не рассказывать в синагоге о произошедшем сегодня вечером.
Молящиеся могут убояться мести старосты, а это испортит праздник. Мальчишки пообещали молчать. Если глава их группы смог проявить такую устрашающую сдержанность и не дал сдачи нечестивцу Сулкесу, то и они должны сдержаться и никому не рассказывать о величии реб Янкла, которое видели своими собственными глазами. Мейлахка-виленчанин пошел еще дальше и в сердце своем взял на себя обет, что с сегодняшнего дня станет ищущим пути и останется в Новогрудке на веки вечные.
Полтавчанин шагал молча и думал о своих товарищах по ешиве, которые наверняка уже были так пьяны, что не могли отличить восклицание «Благословен Мордехай!» от восклицания «Да будет проклят Аман!»[189]. Скоро он выпьет больше водки, чем они, и перегонит их в веселье. Янкл не сомневался, что война со старостой благотворительной кассы разгорится с новой силой и что будет весело. Война за Тору и за мусар будет поддерживать его дух, чтобы он не опустился на более низкий уровень и не остыл, как это случилось с его прежними товарищами по группе аскетов, которую когда-то возглавлял реб Цемах-ломжинец. Правда, старшие ученики, а возможно, и глава ешивы скажут, что он дикарь. Будут кричать, что из-за него обыватели перестанут помогать ешиве. Да мало ли, что будут говорить и кричать?! Новогрудок велик именно тогда, когда ведет войну. Новогрудок велик именно тогда, когда голодает.
Большое черное крыло ангела смерти распростерлось над ешивой на следующий же день после праздника Пурим. Квартирная хозяйка Генеха-малоритчанина, принявшая, помимо него, в свой дом и больного Даниэла-гомельчанина, ворвалась в синагогу с криком:
— Его нет!
Со всех сторон к ней бежали ешиботники, спрашивая, что случилось с Даниэлом-гомельчанином? Но она ответила им, что несчастье случилось не с больным. Это Генех-малоритчанин умер от сердечного приступа, сказала женщина и лишилась чувств.
В синагогах, в лавках, в домах — повсюду говорили об этом несчастье. На похороны пришла большая толпа, пришли богачи и все наревские раввины, ожидавшие, что им окажут честь, попросив произнести надгробную речь. Но ешиботники даже не смотрели в сторону лучших людей города. Они проталкивались к гробу с телом покойного и раскалывали небеса своими рыданиями. Переулки вокруг синагоги Ханы-Хайки бурлили, переполненные людьми. Поднятые вверх руки передавали гроб поверх голов. Гроб плыл, как низкая темная туча над верхушками деревьев, пока его не внесли в ешиву и не поставили на возвышение бимы. По ступенькам на биму поднялся глава ешивы, его вид наводил страх. За одни сутки он превратился в старика с опустившимися плечами, лицо его посерело, как пепел, длинная узкая борода свисала с подбородка, как повешенная. Он размахивал руками, шевелил губами, но так и не смог произнести ни слова. Глава ешивы спустился, а за ним стали подниматься один за другим молодые новогрудковцы, слывшие пламенными проповедниками. Но и они на этот раз не смогли говорить, только хрипели и обливались слезами. Когда из синагоги начали выносить тело усопшего, кто-то громко с рыданием воскликнул: