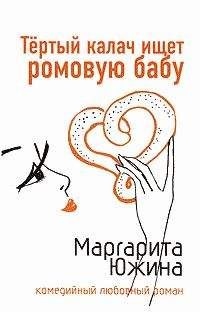Однако «поток сознания» не помогал переносить «тяготы и лишения» - философ все больше уставал. Возникла острая необходимость искать место, куда бы можно присесть. Он еще держался на ногах, но после того как объявили о задержке его рейса, силы будто разом кончились. Ему казалось, что если он нечаянно споткнется и упадет, то уже не сможет самостоятельно встать. Философ шаркающей походкой переходил из одного огромного зала в другой… но свободного сидячего места нигде не увидел, более того даже у стен все пространство оказалось занято пассажирами, сидящими прямо на своих чемоданах и сумках, некоторые просто лежали постелив на пол кто что мог. Он приехал в Москву с одним портфелем и конечно тоже мог бы положив его на пол сесть… но он не опустится до этого, чтобы подложить свой портфель, в котором лежат его нетленные рукописи на этот грязный заплеванный пол. На такое способны только вот эти люди, лишенные собственного достоинства, а он его имеет… О что это?... Там возле кадки с каким-то полузасохшим экзотическим деревом… Кажется случилось чудо, там освободилось место на так называемой «завалинке», кожухе тянущемся вдоль наружной стены из оргстекла, который закрывал трубы отопления. Сидеть там, конечно, не очень удобно, но можно. Философ, мобилизовав все остававшиеся у него силы, поспешил туда… Он успел, или скорее всего прочие претенденты на этот «аналог сидячего места», увидев как к нему устремился, едва не сшибая встречных-поперечных, пожилой человек в кепке с перекошенным злым лицом… они просто не стали его оспаривать.
Ну вот, наконец-то, он сидит, опираясь спиной о прозрачную стену, и снизу идет теплый воздух от отопительных труб. Можно слегка передохнуть прикрыть глаза и вновь предаться любимому занятию, думать-мыслить. Десятилетиями натренированный интенсивными философскими размышлениями мозг не мог бездельничать, предаваться чему-то вроде блаженства, рождая иной раз такие выводы, что надо бы тут же записать, ибо то были мысли достойные Платона, Декарта, Канта… и им равных величайших мыслителей человечества. Но рождались они в его голове, философа второй половины двадцатого века, крупнейшего (в этом он не сомневался) философа своего времени. Вот только не повезло ему со страной, где приходиться жить ему и его небольшому, но талантливому народу. В последнем он тоже не сомневался, ведь именно его народ выдвинул такого философа как он, а весь этот огромный титульный за всю свою историю не смог выродить ни одного такого же (в этом он тоже не сомневался). Видимо потому здесь и не ценят по достоинству настоящих гениев, титанов мысли. Потому что сами не могут таковыми стать. Хотя, в общем-то, его признают. Причем признают даже в так называемых высших сферах, если конечно так можно говорить о выскочках-плебеях, руководящих этой страной. Сейчас он вспомнил малозначительный но показательный факт, как в пору его студенческой молодости, будущая жена первого лица этой страны, с той которой он тогда учился на философском факультете университета… Эта пустая жеманница тогда на каком-то студенческом вечере с восхищением проговорила: ох и какой же ты умный и талантливый. А он тогда лишь дурачился, экспромтом выдавал какие-то заумные объяснения самых обычных вещей и тем ставил своих сокурсников в состоянии мыслительного ступора. Они, будущая элита общества, студенты-философы просто оказались не в состоянии так же как он свободно, абстрактно мыслить и делать выводы – ведь для этого даже таланта мало, нужна внутренняя свобода мышления, свобода от расхожих мыслительных штампов, что дает именно чувство собственного достоинства. Помнится, уже будучи преподавателем университета, в среде прочих преподавателей-философов он опять же экспромтом выдал: «Существуют предметы и существует бытие существующего и существует еще нечто в мире, что требует своего особого языка, для того чтобы это нечто выразить. И этот язык есть метафизика, или философия». Эту его в общем-то простую мысль не мог постичь никто. А коллеги просто посоветовали ни в коем случае не втолковывать это студентам, и вообще для его же блага не выходить за рамки официальных учебников. И тогда пришло окончательное осознание, что он один единственный в этой стране настоящий философ, способный не слепо пересказывать учебники, а создать свою философию. Все остальные в лучшем случае способны просто философствовать хоть и считались настоящими философами, защищали диссертации, получали кафедры, звания, награды. А он создал-таки свою философию, так же как в свое время это делали те же Платон, Декарт, Кант, Гегель… Свою философию он определил как «поиск гражданства неизвестной духовной родины». Ха-ха… и вновь здесь его ни кто не мог понять. Да и где им этим правнукам крепостных рабов, детям взбунтовавшегося плебса, уничтожившими своих господ и захотевших «звучать гордо»… Но для этого, опят же надо перво-наперво уважать самих себя, отучится от своих мерзких привычек, хотя бы не есть на газете. Нет, русским потребуется еще много столетий, чтобы обрести чувство собственного достоинства, предтечу свободы духа и мысли, чтобы выдвигать из своей среды настоящих больших философов, таких как он. А пока что эти тупицы даже в ранге профессоров и академиков не смогли распознать в его «поиске неизвестной духовной родины» всего лишь теоретическое обоснование поворота вектора развития его народа в сторону от отставшей, деградирующей России. Туда, куда лучшие представители его народа всегда смотрели с надеждой на спасение, в сторону просвещенной Европы…
Философу вдруг стало тяжело дышать. Он расстегнул пальто, ворот рубашки – легче не стало. Из под «завалинки» тянуло душным теплом. Надо бы выйти на улицу, на воздух. Но вставать, потерять сидячее место, к тому же обходить всех этих лежащих, стоячих, сидячих, чавкающих… очень не хотелось. К тому же даже уличный воздух здесь был ему глубоко противен, он просто не мог быть по определению свежим, хорошим… Философ переборол минутное недомогание, и уже не обращая внимание на противное тепло снизу и покалывание в груди вновь погрузился в свой любимый мир, мир размышлений. Гераклит говорил: жизнь есть смерть, а смерть есть жизнь. Они взимопереплетены. Философ продолжил, развил, подробно расшифровал это утверждение: «В нашей духовной жизни всегда присутствуют некие мертвые отходы, или мертвые продукты самой жизни. И часто они могут занимать все ее пространство, не оставляя места для проявления живого чувства, живой мысли или поступка». В этой теории краткое и исчерпывающее объяснение ситуации сложившейся в Советском Союзе сейчас, в конце двадцатого века, той клоаки, куда он пришел под эгидой русских. Страна опутанная всевозможными нежизненными догмами, этими мертвыми продуктами, мертвечиной, которые не оставляют места для любых живых проявлений. И такое положение, приемлемое для титульной нации, и ряда таких же малокультурных народов, становится уже не выносимым, для народов, тянущихся к живому свету, чистому воздуху, хорошей, сытой, обеспеченной жизни. Все эти события в Алма-Ате, Вильнюсе, наконец, на его родине, живое воплощение его философских изысков. Народы, имеющие чувство собственного достоинства больше не хотят также мучиться и терпеть как русские, делить с ними скотскую жизнь. Ведь все к чему прикасаются русские рано или поздно становится смердящим, мертвым. Они даже идею социализма сумели так извратить и опошлить, что она стала мертвой, неработающей догмой. Ведь что такое социализм? Это общество просвещенных кооператоров – независимых производителей. А эти что сотворили – колхозное, крепостное по сути сельское хозяйство и почти такую же государственную промышленность, работающую не на удовлетворение людских потребностей, а выдававшее «на гора» неисчислимое количество всевозможного оружия. Для русских, рабов по натуре – это вполне приемлемо, а для более свободных духом советских народов? Они не хотят так жить, ибо имеют отсутствующее у титульной нации чувство собственного достоинства, особенно сильно не хочет его народ.
Философ размышлял с полузакрытыми глазами, а когда открыл их и вновь оглядел окружавших его пассажиров… Они по-прежнему сновали взад и вперед, стояли сидели, разговаривали, ели… Нет, слово ели не подходило к этим людям, это можно обозначить только словом жрать. Да они не ели, а жрали, жадно, утоляя свой многовекой голод, доставшийся им от никогда не евших досыта предков, жрали часто немытыми руками, на коленях, на газетах. Но они все терпели, терпят и терпеть будут. Его народ никогда не голодал, хоть также жил и в Российской империи и в сейчас в СССР… никогда. А эти всегда умудряются жить впроголодь. Он вновь уже с нескрываемым презрением оглядел всех этих мужчин, женщин, детей… Да они все рабы, рабы по духу, по привычкам доставшимся им от их крепостных предков. Хоть они и перебили в семнадцатом году своих господ, но сами жить без господ, без барина не могут. Они выдвигают их из своей среды. Но то все плохие господа, никуда не годные. Потому рано или поздно придут господа, руководители со стороны, как всегда было в их истории таковые приходили из Скандинавии, Орды, с Европы… И сейчас придут и взнуздают это быдло так, как его соплеменник сумел их взнуздать и всенародно изнасиловать, заставив их прыгнуть выше своей головы, совершить то на что у них не имелось ни способностей, ни мужества. И сейчас должны прийти умные, волевые, безжалостные. Таковых особенно много среди его земляков, они поставят это быдло в привычную для них пятую позицию и заставят делать великие дела этот никчемный народ почему-то возомнивший себя великим… Но не сейчас, позже. Сейчас это стадо должно пожить в хаосе, голоде, холоде, чтобы окончательно осознать, что сами они никогда из дерьма не выберутся. А пока надо чтобы его народ обрел независимость от этих ублюдков и наладил без них разумную и богатую жизнь, чтобы быдло это увидело и коленопреклоненно попросило, как когда-то их далекие предки просило варягов: придите и володейте нами… А чтобы добиться независимости всего и надо-то чтобы русские наконец перестали нас уважать и любить, не захотели с нами жить, возненавидели нас так же сильно, как ненавидим, презираем их мы!