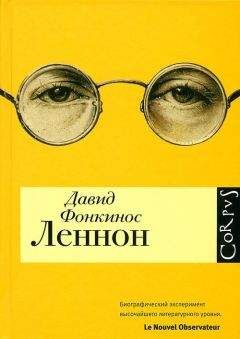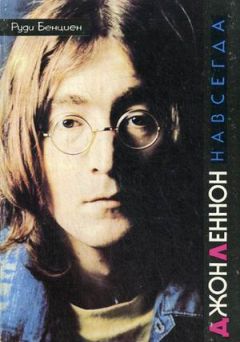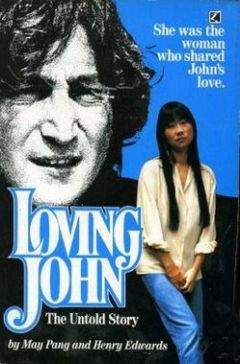Чувство, что я не такой, как другие, значило для меня очень много. Да, я был другой. Я быстро осознал, что я гений. Во мне имелась достаточная доля страдания, необходимая для формирования гения. Не думаю, что, став знаменитым, я изменился: скорее уж изменились другие. Просто целый мир вдруг понял, кто я такой.
Гениальность вначале проявлялась в видениях. Ведь все зависит от способа восприятия. И я стал Джоном в Стране Чудес. В стране, где я был Богом. Это породило во мне чувство всемогущества, и я не собирался его скрывать. Правда, никто не замечал произошедшей со мной перемены. Я-то думал, что она будет бросаться в глаза всем и каждому, но нет, я оставался невидимкой. Гениальность формируется как латентная болезнь. Она съедала меня изнутри, я это чувствовал, но, чтобы она проявилась, требовалось время. Иногда меня охватывал страх, что я схожу с ума. Лежа в постели, я порой шепотом сам себе рассказывал сказки и обливался слезами, не то от смеха, не то от рыданий. Слезы перемешали все мои чувства. Между ними не осталось никаких границ.
Мими все время повторяла, что я дурачок, и началось это еще в детском саду. Я даже куличики лепил сикось-накось. Наверное, я воровал соски или чужие полдники, потому что вскоре меня выгнали. Пришлось тетке подыскивать мне новую песочницу. Помню, что с самого раннего детства нам уже проедали плешь каким-то экзаменом, который ни в коем случае нельзя было провалить. Шестилетнего ребенка стращали тем, что у него будет не жизнь, а дерьмо. Большинство учителей тоже только и делали, что меня запугивали. Когда я подрос, стало еще хуже. Они все смотрели на меня как на идиота. Ну, может, не все, но почти все. В средней школе они надеялись, что я стану врачом или дантистом. Как будто я всю жизнь мечтал целыми днями ковыряться у людей во рту. Но для них это было высшее достижение в жизни. Оргазм профессионализма. Ну ладно, случись так, что я выучился бы на дантиста, я стал бы лучшим дантистом всех времен и народов. Я бы произвел революцию в деле производства мостов. Я собирал бы стадионы зрителей, которые смотрели бы, как я выдергиваю зуб. Я все равно стал бы великим, что бы ни произошло.
Если с чужими я мог выпендриваться, то дома я волну не гнал. Я хотел, чтобы меня любили. Я хотел, чтобы Мими думала, что я ее малютка Джон, и была счастлива. На меня давил груз всех тех жертв, что она приносила, воспитывая меня. Значит, от меня требовалась отдача. Я должен был любой ценой и в той же валюте вернуть ей ее доброту. Быть хорошим мальчиком. Я им и был, несомненно. Мои слабости — а их у меня хватало — были связаны с повышенной эмоциональностью. Я был ранимым ребенком. И сам боялся своей уязвимости. Отсюда и зацикленность на самом себе: я не хотел, чтобы меня еще раз бросили.
Я очень сблизился со своим дядей Джорджем. Он никогда не пытался вести себя со мной как отец, скорее стал мне старшим братом. Мими донимала меня строгостями, а он частенько вставал на мою сторону и служил мне защитой. Между нами установилось настоящее сообщничество. Мы вместе слушали радио, он давал мне пробовать спиртное и даже подарил губную гармошку. Он много путешествовал, много чего повидал, и это меня пленяло. Я очень его любил, да и сейчас люблю. Почему я о нем вспомнил? Потому что именно с ним связано окончание моего детства. Он умер скоропостижно, вот так, ни с того ни с сего. Его кончина стала первой в длинной череде трагических смертей, той череде, что превратила мою жизнь в передвижение по узкой тропе между горами трупов. Да, он умер внезапно, от кровоизлияния в печень. Он был дома, мы с ним разговаривали, я не очень четко помню, как это произошло, но помню, что буквально через несколько минут его не стало. Мими от горя голову потеряла, а я не знал, что делать. Никогда не думал, что она умеет плакать. Даже вообразить себе не мог, что у нее тоже есть сердце и это сердце может кровоточить. Через несколько часов я с одной из своих кузин ушел к себе в комнату. И мы там смеялись. Я до сих пор корю себя за этот смех. Отвратительный смех. Мы сами не знали, чему смеемся, но мы смеялись, как будто смерть ничего для нас не значила. Я был растерян, я не знал, что делать. Произошедшее казалось мне невозможным.
Вокруг Мими толклось очень много народу — родственники, друзья. Но в принципе жизнь очень быстро вошла в нормальную колею. Это было какое-то безумие. Она даже отпускала шутки над еще не остывшим телом мужа. Своим цинизмом я во многом обязан ей. Мне казалось невероятно странным видеть смерть, которая нас не убивала. В это же время у нас немного чаще стала появляться моя мать. Ее присутствие меня смущало. Иногда я даже убегал и прятался в саду, лишь бы с ней не встречаться. А иногда, наоборот, сидел перед ней как идиот, разинув от восторга рот. Мне постоянно вбивали в голову, что я не должен задавать никаких вопросов, поэтому я ничего о ней не знал. Хотя нет, основное все-таки знал: что она живет с Дайкинсом и у нее две дочери. Но где, по какому адресу — не знал. Пока кто-то из приятелей не сказал мне, где они живут. Оказалось, в двух шагах от нас. Это было ужасно: осознать, что все эти годы, когда я смертельно страдал без нее, она была совсем рядом. А я, как любой другой ребенок, сочинял себе сказки, чтобы меня не захлестнула ненависть к родителям. И даже эту оскорбительную правду я преобразовал в хорошую новость: раз мать так близко, то мне ничего не стоит пересечь парк и прийти к ней. Именно это я однажды и предпринял.
Я позвонил в ее дверь. Сердце колотилось как бешеное, как будто я пришел на любовное свидание. Она открыла и уставилась на меня. Не знаю, как описать эту минуту. Она стояла замерев, очевидно захваченная врасплох. А потом вдруг обняла меня и запричитала: «Мальчик мой, мой мальчик, какой ты стал большой». Я не ожидал подобного излияния чувств и постарался не выдать своего волнения. Мне хотелось выглядеть перед матерью мужчиной. Во мне поднималась огромная радость, но радость омраченная. Эта радость меня опустошала. Как она может демонстрировать такую любовь, если ни разу даже не попыталась ко мне прийти? Но она продолжала улыбаться, и я понял, что сейчас не время задаваться вопросами. Лучше просто наслаждаться эти прекрасным мигом. Так говорил мне инстинкт, и его голос заглушил все остальное. Десяти лет разлуки как не бывало. Настоящее своей сокрушительной очевидностью изгнало прошлое прочь. Мы оба поняли это в тот день, я уверен. Я прочитал это в ее улыбке, как и ее облегчение. Больше мы не расстанемся. Она станет центром моей жизни. Для меня наконец-то начиналась вечность материнской любви.
Давненько я не лежал на вашей кушетке. Мы ездили в Японию… На несколько месяцев. Повидаться с семьей Йоко. Хотя нет, не так уж долго мы путешествовали. На самом деле я больше не хотел сюда приходить. После последнего сеанса я понял, что больше не хочу говорить. Потому что, если я опять приду, мне придется рассказать о смерти матери. И я решил это дело бросить. А потом случилось еще кое-что. Событие, которое сразило меня наповал. Я говорю про смерть Элвиса.[7] Поначалу я просто не поверил. Быть того не может, сказал я себе. Есть люди, которые не могут умереть. Или так: есть люди, которые не имеют права умирать. Как будто мне сообщили о моей собственной смерти. Я почувствовал себя как никогда близким к нему… Ощущал его сдвиг как свой собственный: кто лучше меня способен его понять? Таких людей нет: только я и трое остальных битлов. Мы пережили то же безумие и ту же истерию. Мы познали то, что вырывает человека из общности прочих людей.
Несколько дней назад я прочитал статью, автор которой сравнивает меня с Элвисом. Раз пресса больше не пишет обо мне, то это потому, что я так же разжирел, как он. И еще облысел. Да, если верить журналисту, я прекратил записывать диски, потому что лишился волос. Обо мне ходит столько слухов… Как будто не выступать и не писать музыку — это какая-то патология. Я, может быть, вообще не вернусь никогда. Стану Гретой Гарбо от рока. Да чего тут рассуждать? Я артист, который решил сделать паузу, который занимается своим сыном и который опять пришел к вам, потому что его убила смерть Элвиса.
Если я стал тем, кем стал, то лишь потому, что Элвис был тем, кем был. Он взорвал мою жизнь. Никогда не забуду, как я услышал его первый раз. Мне показалось, что у моих ушей выросли ноги. Что они побежали бегом через мой мозг, по всему телу. Все это самым неразрывным образом связано с моей матерью. Когда мы возобновили общение, то начали иногда вместе куда-то ходить. Она превратилась для меня в абсолютную героиню. Она меня завораживала. Она была такая красивая, такая свободная, такая не от мира сего. Она стала для меня чем-то вроде старшей сестры. Она довольно откровенно говорила о своих желаниях, что меня иногда смущало, хотя думаю, что на самом деле мне нравились ее шокирующие высказывания. Я убеждал себя, что такая свобода выражения — это возможность взаимопонимания между нами. И потом, я наконец-то вырвался из кокона благопристойности, созданного Мими. Мать танцевала, пела и играла на банджо. Именно она научила меня первым аккордам. Так в мою жизнь вошла музыка. Вначале нам было довольно трудно. Вдруг снова начать видеться после десяти лет разлуки — ну не странно ли? И тогда вместо нас заговорили диски. Особенно диски Элвиса. Мы слушали его, и между нами мгновенно возникало тепло. Что-то такое, что разбивало лед и заставляло нас шевелиться. Элвис был нашим целителем. Элвис пробудил меня от спячки. Если мы ходили в кино, то видели девчонок, заходившихся в крике, и тогда до меня дошло, что быть звездой — отличная работа. Все на свете хотели быть Элвисом, но мне, конечно, и в голову не могло прийти, что я не только стану Элвисом, но и превзойду его, оттеснив в разряд has been.[8]