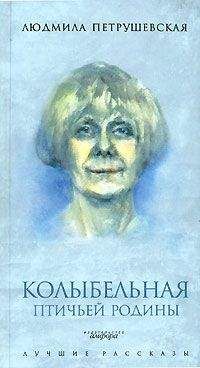Но чувствовалось, что он изучает народников просто так, не для того, чтобы затем, в дальнейшем, использовать это в каких-то целях. Во всяком случае, не затем, чтобы обогатить свой внутренний мир, и уж конечно не затем, чтобы писать работу о народниках. Просто это была какая-то привычка, вроде собирания брелоков или кусков мыла.
Мы восхищались Сережей именно за то, что для него, очевидно, не существовало никаких благ, которых бы он хотел добиться. Он не был честолюбив и тщеславен, он был болезненно не тщеславен. Он был в таких размерах не тщеславен, что мы чувствовали в нем великую душу полководца, пребывающего в опале и брезгающего мелкими проявлениями почета и мелкими воспоминаниями и мечтами.
Ему ничего не нужно было, кроме того разве, что он иногда уезжал на дачу и проводил там время с живущими там стариками — родителями Ирины, но отдельно, конечно, от них. Ирина же терпеть не могла этой дачи и никогда вместе с Сережей туда не ездила.
Теперь я еще могу сказать, что он имел на нас, конечно, невероятное влияние. Я не могу сказать больше о себе, потому что я тогда не способна была себя анализировать, я была тогда, в те годы, просто бесформенной подушкой. Конечно, у меня тоже были свои сны и свои воспоминания детства, на которые никто никогда не покушался. Я не придавала им значения. Уже тогда, не ожидая никого, кто мог бы потом пренебречь этими моими ценностями, я отвергла их и больше к ним никогда не возвращалась. Вместо этого я была полна Сережей.
Мы все были люди, что называется, не творческие. Среди нас не было ни единого художника, или поэта, или актера. Мало того, среди нас не было и людей, блещущих какими-то домашними талантами. Мы никогда не приводили в дом к Сереже никого, кто так или иначе мог украсить наше общество хотя бы только присутствием в нем. Мы как-то инстинктивно чувствовали, что человек так называемый «творческий» — это всегда зависимый человек, не могущий жить без внимания. Мы никогда не обсуждали вопрос, может ли существовать искусство без зрительства, без второй стороны, без осматривания, выслушивания и суждения толпы. И никто из нас никогда не сожалел, что огромные силы Сережиной души оставались втуне, не примененными ни в какой сфере творчества. Я даже позволю себе сказать, что огромность Сережиной души поблекла бы и растаяла, если бы он вздумал заняться, скажем, писанием романа. Сережа не мог предстать перед кем-то обнаженным, беззащитным, судимым. Само показывание себя было бы для него нестерпимо.
Я даже могу сказать, что Сережа не жил с Ириной в том, общепринятом смысле этого слова. И в какой-то степени, я не могу точно сказать в какой, это тоже относилось к его взглядам на творчество, как это ни смешно звучит. В браке есть тоже нечто общепринято-бесстыдное, освященное будущим появлением детей.
Однажды мне позвонил на работу сосед Сережи, молодой человек, живший в той же квартире с женой и маленькой дочерью. Он сказал, задыхаясь от плача:
— У нас большое несчастье, вы слушаете?
Я сразу заплакала, потому что поняла, что у них умерла дочка, я всегда с ужасом думала об этом, я ее безумно любила, как-то животно; это был единственный ребенок в нашем кругу, и Сережа любил ее больше жизни и иногда ходил смотреть, как она спит, и просиживал около ее кроватки, когда она болела, целые дни и был готов сидеть и ночью.
— Вы слушаете? — сказал сосед. — Сережа наш повесился. Мы сейчас вернулись из морга, его принесли из лесу пастухи, там, на даче.
И тут я при всех, ясным солнечным утром, на работе, начала кататься по полу меж столов, в полном сознании того, что я не успела, не успела, не успела…
Это уже потом я стала ездить по его бывшим знакомым, нашла Надю и долго говорила с ней, а потом ездила к ней в больницу и хоронила ее через год. Я узнала о Сереже все, что можно только было узнать и чего никогда не знала и не узнала Ирина. И все равно мне этого мало, слишком мало. У меня все остается то чувство, которое я испытала на полу у себя на службе, — не успела, не успела, не успела…
Ты мне говори, говори побольше о том, что он конченый человек, он алкоголик, и этим почти все сказано, но еще не все. Он живет на иждивении у своей больной матери-надомницы и поэтому так всегда старается уйти до половины первого, до того часа, как закрывается метро, все потому, что у него никогда нет денег на такси. И если в конце концов он все-таки остается на мели где-нибудь за тридевять земель, он идет пешком домой или еще как-нибудь поступает — во всяком случае, утром всегда оказывается, что он дома, а как это происходит, никто не ведает. И это не потому, что он бережет деньги, которые ему дает больная старуха-мать, — просто у него нет этих денег, нет вообще денег, вот и все.
Но как-то он все-таки из любой точки ночью добирается до своего дома. Я думаю, как должна любить его старуха-мать, как она его должна любить, просто уму непостижимо.
Еще ты мне скажи, что он опустошенный человек, что для него нет ничего святого, что он вот уже год переводит Теннисона, никому не нужного, наконец, ты мне скажи, что ему всего двадцать три года, но и этим ты тоже не скажешь ничего. Ты можешь еще наговорить такого, что когда-то ты все думала, что, может, родить от него ребенка, но потом поняла, что это ничему не поможет, а ребенок окажется вещью в себе, не зависящей ни от чего и не желающей ни на что влиять.
И вот наконец в полутьме твоей комнаты он сидит за столом вместе с другими людьми, а ты сидишь далеко от него, где-то на отшибе, не думающая о себе буквально ничего, ни крошечки — это твоя самая прекрасная особенность, — ты сидишь, как всегда, в полном спокойствии. Он важен с легкой подковыркой, вежлив, он джентльмен с бесовским выражением лица, он внезапно смеется гораздо более высоким голосом, чем его собственный. Всё происходит нормально, все едят рыбку с какими-то сухими скорыми блинами производства твоей сестры и наливают друг другу то ли столичную, то ли вудку польску выборову. Он наливает своей соседке, которая таинственно накрашена и неумело курит, каким-то образом она тоже попала сюда, ну да бог с ней. А ты сидишь, щурясь, и смеешься так сердечно, без капли наблюдения за собой со стороны и сравнения себя с кем-то…
Очень весело за этим полутемным столом, играет пластинка «Бай-бай, мон амур», никаких ухаживаний за этим столом, никакого секса, никакого возраста и служебного положения. «Рыбка, рыбонька», — раздаются возгласы в полутьме.
Он пьет рюмочки одну за другой, абсолютно не пьянея, он ест рыбку и говорит удачные остроты, подставляет спичку своей соседке и подливает в ее стопку, и все это кажется таким обыденным. Разговор держится на воспоминаниях об общих знакомых и том учреждении, где они все немного подрабатывают, — а того прекрасного общего разговора, какой иногда возникает из пустяка, этого нет и нет. Постепенно бутылки пустеют, и происходит очень простой факт: твоя сестра приносит в комнату и прямо ставит в центр стола двухсотграммовый лекарственный пузырек со спиртом. Сестра — биохимик, она выписывает на работе спирт для экстракции высокомолекулярных органических соединений, для выделения тейховых кислот клеточной стенки, для спектрофотометрии антибиотиков-сырцов, для стерилизации стола и посуды.
Никто не потрясен этим фактом появления спирта, некоторые отказываются это дело пить, разбавляют, а он аккуратно себе наливает воды в стакан на донышке и спирту полную рюмку и своей соседке предлагает то же самое, и она неожиданно соглашается.
Здесь уже начинает действовать его знаменитое обаяние, хотя эта соседка и начинает объяснять вполголоса, что согласилась, чтобы и ей налили спирта, исключительно для того, чтобы никому не было заметно, что он чаще других и в одиночку наливает себе спирту. В ответ он делает любезное лицо и предлагает хотя бы чокнуться с ним, а все остальные смотрят кто куда, и только одна ты с простодушным беспокойством наблюдаешь за ним и за его соседкой, которая в это время с храбростью одним духом проглатывает свой спирт и, не переводя дыхания, как учит он, что главное — это не переводить дыхание, тут же выпивает воды, и делает равнодушное лицо, а все вокруг восклицают, что она помрачнела.
Некоторые в этот момент прощаются и уходят, потому что есть какие-то дела дома, пока еще без двадцати двенадцать. И тут он, которого, кстати говоря, зовут Иван, поднимается и выходит из комнаты, оставляя свою соседку в состоянии разочарования. Кто-то берет тремя пальцами пузырек за горлышко и встряхивает, и обнаруживается, что спирт весь. «Ого», — говорит кто-то, а ты смотришь на дверь. Иван появляется оттуда позади сестры-биохимички. Он спокойно идет в свой угол и усаживается рядом с прежней соседкой, которая от нечего делать перелистывает в полутьме какую-то книжку. Соседка продолжает свое дело, иногда беззвучно смеясь, а он сидит и терпеливо смотрит перед собой, опершись ладонью о край стола и дымя сигаретой. Идет общий разговор, соседка вслух читает какие-то смешные заголовки из книжки. Потом выходит сестра-биохимичка, неся мокрыми пальцами полную маленькую рюмочку. Иван поднимается перед этим фактом, благоговейно пьет и тут же запивает водой и садится рядом с соседкой, которая говорит: «А мне?»