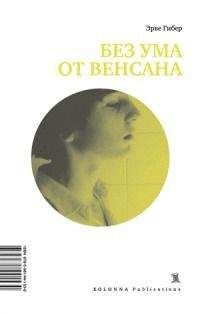Но и это уже проходит, под горку катится. Вот, мои любимые три слова мусор, сумерки, капуста — могут быть началом поэмы «Бедная мать и обосранные дети». Так по-русски называли ситуацию полной мизерии (От итальянского miseria — несчастье, нищета), когда мало того, что женщина бедная, так у нее еще и дети обосраны. Но ведь это отношение к словам вызвано вдолбленной в голову литературой и общественным мнением, мнением мещанского большинства, что капуста — это бедность. И тут же сценка предстает — дворик гадкий, мусорная яма, сумерки крадутся к перекошенному дому с тусклым огнем в окне. Дверь скрипит, и изможденная женщина на пороге выплескивает прокисший обед из капусты в мусорную яму. А за приоткрытой дверью крики ее больных детей и виден край стола и локоть руки рабочего, подпирающей впалую щеку — 16-часовой рабочий день, еще до Маркса, — мусор, сумерки, капуста. Но вот Антонио мой, он иначе бы увидел! Он и солдат афганских «эклерами» и «конфетами» видит — а не изуродованными трупами, не сошедшими с ума ветеранами. А я, я как вижу? Так ли уж розово-весело? Или тянет меня все-таки на что-то смертельное?
* * *
Наобижал вчера Катрин. Благо был пьян и не стеснялся, заставлял ее мной заниматься. Долго-долго. Но в постели лучше всего американцу с русским. Они похожи тем, что принадлежат большим нациям и сами большие. Борьба у них получится равносильной. Почему я сказал: борьба? Что-то не припомню, когда был в постели с кем-то и думал бы. о безоблачном счастье, мире. Всегда какие-то клубы туч и дыма, как на поле боя. Когда связи случайные, то и относишься к ним с насмешкой и иронией — ну, что, цыпочка, уже стонешь? Когда с Мари был, то обида не оставляла — почему ты такая, а не другая, Мари, побольше бы и покачественней, и за что мне это… С Катрин то же приблизительно, но ее за это еще и наказать хочется — ее за свою слабость. С русской Олей было чувство победы — большой, со знаменами и трубами, с барабанами и пушками. Но проскальзывала всегда улыбка удивления — я, маленький эстонец, подмял под себя Россию?
А ночью мне снилось — в последнее время с трудом отличаю сны от фантазий наяву — как я готовлюсь к смерти. Как я обставляю свою смерть, чтоб была красивой. Я накупил будто много индийских палочек и каких-то мазей пахучих и все это по комнате расставил. Новое шелковое белье застелил, цветы кругом сухие. Потому что если поставить свежие, вода начнет гнить и будет запах нехороший. А сухие можно очень красивые купить. Себя я тоже очень красивым видел. Главное, загримированным. Так как человек уже через несколько часов после смерти становится некрасивого цвета. Серо-желтого. Я не знал во сне-фантазии, от чего я умираю, только я очень хорошо лежал среди цветов и запахов. Не покойничком деревянным, а будто цветок, задумчиво прилегший слегка набок. Говорят, у покойников челюсть отпадает и язык вываливается. Если бы я был женщиной, то мог бы платок туго повязать, чтобы он заодно и подбородок придерживал, но вот что мне, мужчине, сделать, чтобы не выглядело глупо. Главное, клоуном не быть или еще кем. Чтобы этого не произошло, надо и вещи свои заранее собрать. То есть все заранее рассортировать по коробкам: бумаги деловые — кто я, что я — в одну; одежду, которую еще носить можно, — в другую, людям чтобы дали; книги — отдельно, фото и письма — тоже, чтобы лежало все в коробках надписанных: заинтересуется кто — оставят, нет — сожгут. И чтобы не пришлось рыться в вещах, перебирать их, чтобы не наткнулся никто на что-то компрометирующее, на что-то, что рассмешило бы. Чтобы комиссар не махнул рукой — а-а-а, вонючий пэдэ…
Я помню, отец матери всегда говорил — беда одна не ходит. То есть очень даже просто и накликать беду. Общаясь с определенными людьми, можно попасть в ситуацию, им свойственную. Если знаешь, что люди всегда опаздывают, и пойдешь с ними на вокзал — заранее можно быть уверенным, что опоздаешь. Я все перебираю в памяти — на семь лет назад — не спал ли я с кем-нибудь подозрительным, не было ли какой-нибудь наркоманки, девушки, у которой друг бисексуальный. Вроде нет. Приличный я. И девушки у меня были приличные. Так мне хотелось всегда запретного, но никогда я не решался. И в то же время всегда я около, всегда я об одном и том же и возвращаюсь вечно на идею смерти. Я немного, как моя нация. Всегда-то она дергалась. Таллин был основан датчанами, потом нас выиграли Тевтонские рыцари, потом нас завоевал Иван Грозный, с поляками прогнали Минин и Пожарский из Москвы, потом немцы, потом опять русские. И всегда наши лучшие люди говорили о независимости. И никогда ее не было. Долгой — не было. А умный, наверное, тот, кто уйдет от всего и будет отдельно. Гомбрович на холмах не польских…
Потеря иммунитета вовсе не означает, что человек болен СПИДом. Но это уже безысходность, отчаянье, из которого нет выхода. У меня давно уже моральная серопозитивность, потеря иммунитета. А Дани не хотел бы умереть. Он весь отбрыкивается. Но уже сил нет у него, как и никогда не было, — оттого-то он и заболел — не смог справиться со своим минутным желанием когда-то. Как неудачно Серж попал в эту историю. Он-то не слабенький, не болванчик в руках судьбы. Моя судьба представляется мне полной довольно женщиной, лениво лежащей на диванчике, попивающей какие-нибудь ликеры, покуривающей длинную индийскую трубку и немного разочарованной, — я никакого сопротивления ей не оказываю. Ей скучно.
Оказалось, что Дани уже ходил на тест, три месяца назад. И оказалось, что он позитивный, но что еще не означает конец, смерть. Но Серж умный, знает, какой этот вирус хитрый. И что он может развиться. А Дани склонен к простудам. У него часто герпес на губе. А герпес — софактор к развитию СПИДа. И он пошел еще раз на тест. «…Завтра, я пойду для твоего удовольствия! И почему ты не воспитатель?» — фраза, мной услышанная. Он серопозитивный, а у него как раз мерзкая эта болячка на губе, как раз в момент пропажи иммунитета, и ей раздолье… Вообще-то, ее можно и стрептоцидом вылечить, посыпая, — мама так мне в детстве делала.
Я был у них дома. Я совсем иначе все представлял. А у них обстановка очень неприятная. Лекарства на кухне. Правда, только несколько дней прошло после результата, но Дани истеричный все портит. Может быть, позже все войдет в нормальное русло. В ожидании смерти. Я, конечно, сумасшедший, потому что говорю, что все утрясется. Я, конечно, о себе говорю. Я был бы счастлив лежать беспомощным и знать, что с каждым днем приближаю то, к чему стремился. Я бы медитировал, и слезы лились бы у меня из краешка глаза — кто погиб во мне, думал бы я, музыкант, писатель, философ? Всю жизнь я был как собака породистая, оставленная за стеклянной дверью на улице, нюхающая дверь, не тявкающая бесполезно, а пытающаяся просунуть морду в щелочку двери, не способная этого сделать, нервничающая за стеклянными дверьми — ничего сказать не может. Наверное, немало в мире таких собак, как я, не способных себя выразить. Вот трагедия где, а не в том, что тебя не понимают.
Мой хозяин оставил на меня магазин — на целую неделю. Уехал в Израиль, родственник у него какой-то умер. И я впервые за многие годы недобросовестно к работе отнесся. Просто не приходил, не открывал магазин три дня — будь, что будет. Ему, конечно, соседи расскажут. Но мне как-то все равно стало.
Днем я слышал, как играет Дани. Его игра изменилась, мне кажется, стала тяжелой, роковые удары большого барабана только и слышны были. Как локомотив на подходе к депо, замедляя свой ход. Я ляпнул о барабанах, но они не опешили, откуда я, мол, знаю, — погружены в свои невеселые думы, решили, что сами мне уже говорили. И пригласили вчера на концерт группы, где Дани играет. Без певца группа, что мне понравилось.
Дани был сначала в рубашке, а потом остался посреди сцены за своими поблескивающими барабанами в маечке. Очень наслаждался музыкой, видно, голову закидывал, как Антонио. Есть такие французские юноши. До тридцати им всем. Не обязательно, чтобы они были голубые все, товарищи. Они просто будто к весне принадлежат, какой-то своей верой, до тридцати. А потом — отрезано. Сколько голову назад ни закидывай, все уже не то будет, не из весны, а из будней посттридцатилетних — давай обзаводись семьей, страховки продавай, стиральную машину покупай, в августе, кровь из носа, в отпуск… Это моральная смерть своей косой посттридцатилетних срезает под корешок.
На концерте, видимо, многие знали, что Дани обречен. Свои люди собрались. Было удачно сделано — за столиками все сидели. Пили. У них хорошая . музыка, хоть я и не специалист. Вроде джаз, но и не снобско-интеллектуальный, когда не поймешь ничего. Энергичная музыка у них. Еще девушка пела, их протеже, которую и девушкой как-то не назовешь. Молодая женщина, очень настоящая. Будто и не певица. Но как запела — по-английски и с акцентом непонятным, — то показалось, что только такое пением и может быть. И тоже нельзя было сказать, что она рок пела, — шире, чем рок. Дани ей не аккомпанировал, ушел за кулисы. Он очень вымотался за концерт. Казалось, что похудел даже. А молодая женщина закончила свое коротенькое выступление песней с повторяющейся фразой — «Бехайид зе биг кантри, зеар биг пипл!» (За большой страной большие люди). Это так прозвучало, что даже стыдно было, что мы во Франции. Хорошо, американцев много было. Я подумал потом именно про американцев — биг энд ступид (Большие и дурные). И про русских тоже. Они большие не только потому, что крупные физически, но и потому, что их много, большой народ. И им не надо напоминать об этом, когда они выступают где-то, ни слушателям, ни себе, — это в сознании, за ними 280 миллионов, это всегда. А вот принадлежащий к маленькой нации любые свои действия с нацией связывает, никогда нацию не забудет, всегда нацию вставит отсюда французская провинциальность. И эстонская, конечно, тоже. Когда концерт закончился, не включили музыку для заполнения пустоты — и это было прекрасно. Люди разговаривали, не было музыки, музыки, музыки без конца, так что и не слышишь уже музыки.