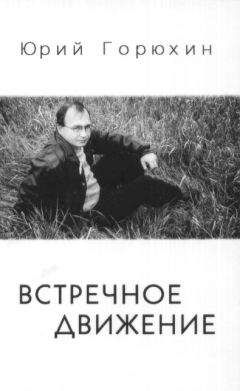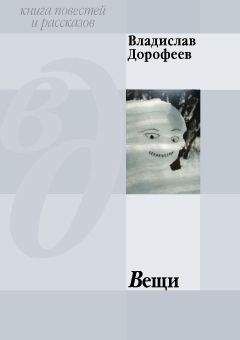— А ну не хулигань!
Сорокин спрятал огромную, обритую наголо голову под подушку и перестал пускать пузыри.
— Здравствуй, дядя Юра.
— Здравствуй, Петя. Печеньки принес?
Грогин протянул пакет с печеньем Юрию Юрьевичу, хотел спросить о здоровье, но решил, что это будет не очень хорошо.
— Как живете, не скучаете?
— Не задавай идиотские вопросы.
Юрий Юрьевич не спеша жевал печенье, прихлебывая из кружки с отколотыми краями безвкусный чай, и совсем не слушал краткие однообразные новости Грогина о близких и не очень близких родственниках, глобальных и локальных событиях, погоде и занимательных случаях из жизни окружающих.
— Я вижу тебе не интересно.
— Почему же не интересно, напротив, вполне забавно слушать о вашей заунывной действительности.
— А здесь веселей?
— Что же это ты мне некорректные вопросы задаешь? Я человек, у которого душа болит, а ты тут на бульдозере разъезжаешь, тоньше надо быть! Какие конфеты принес? «Красную шапочку» или леденцовую мерзость какую-нибудь?
Грогин выложил конфеты на стол, машинально взял одну, развернул и съел ее. Юрий Юрьевич не сводил с челюстей Грогина взгляд, и Грогин стал ждать очередного возмущения, но Юрий Юрьевич хитро подмигнул Грогину и поманил пальцем:
— Петька, у тебя спичечный коробок есть?
— Зачем тебе?
— Заверну его в фантик и подсуну этому бугаю Якову — пусть изумляется всю оставшуюся жизнь.
— Тебе бы, дядя Юра, только людей обижать, в прошлый раз тетю Нину обидел, зачем-то написал на себя донос — ты же вполне можешь…
— Ну и скучный ты парень, Петька, тебя, наверно, девки не любят?
— Некоторые любят, некоторые не любят.
Юрий Юрьевич сделал из фантика маленький кораблик и пустил его в почти полную кружку Грогина.
— О чем беседовать будем, Петя?
— Не знаю.
— Давай поговорим о людях одного произведения.
— Хорошо.
— Ершова с его «Коньком-горбунком» я оставлю тебе на вечер, а вот, скажем, наш друг Джеймс писал дрянные стишки, не бог весть какие рассказики, и вдруг на тебе, пожалуйста: бессмертный «Улисс» — сначала слепой Гомер, потом слепой Джойс, кто ему надиктовал?
— Я бы не сказал, что стишки совсем никудышные, да и в рассказах, особенно в романе «Портрет художника в юности»…
— Ой, Петька! Избавь меня от своего занудства! По существу вся ценность «Улисса» в последней главе, во всех предыдущих Джойс воображает: я и так могу писать, и этак, и перетак, а потом козырь на блюдечке: получайте ваш поток сознания.
— Немного упрощенно…
— Чего?!
Юрий Юрьевич притянул к себе за шею насторожившегося Грогина и показал на идущую от них Люду Кийко:
— Петька, вот бы ее за ягодицу укусить!
Вадим разбивал яйца в кипящее на сковородке масло так, чтобы желтки оставались в объемном виде, а не растекались в безобразную плоскость, если же этого не удавалось, Вадим незло матерился.
— Так сколько мы не виделись?
Валера пожал плечами и стал вслух перечислять значительные события после школьного бала, в которых они с Вадимом принимали участие или не принимали участия.
Вадим разлил по маленьким рюмкам теплую водку и сказал:
— Валер, ты извини, я сегодня много не могу, Анжелка позвала в гости, — ты ее помнишь — немного косила правым глазом — обещала с классной подружкой познакомить.
— Да я и сам не собирался, так просто, думаю, дай зайду к школьному товарищу.
Валера и Вадим легко опрокинули рюмки, сильно сморщились и быстро съели прямо со сковороды шкворчащую яичницу.
— Как живешь?
— Да так себе, с женой все как-то…
— Так ты женат?
— Давно уже, ты не знал разве?
— Валер, извини, мне пора, ты в какую сторону?
— Я на проспект, два года уже женаты.
— Ну ты молодец, дети есть? Мне тоже на проспект, по пути заскочим к одному моему армейскому корешку, я ему кассету отдам.
— Заскочим. Детей нет.
Вадим небольно ткнул в бок Валеру кулаком.
— Что не заходишь? С женой-то что?
— Время нет. А с женой разведусь, пошла она!
Вадим и Валера зашли в подъезд дома номер четырнадцать, и на третьем этаже Вадим, пошарив рукой в темном углу, нащупал маленькую кнопку звонка.
— Сейчас, кассету отдам, и пойдем.
Спиридонов открыл дверь и удивился:
— А где Колям Рафиков?
— Какой Колям?! Это я — Вадим, ты что, зема, меня не узнаешь?
— Зема, Вадим, я тебя узнаю, заходи.
Вадим, Валера и Спиридонов прошли в комнату, в которой Саня сильно тер указательными пальцами глаза, а Ахмет обсасывал соленую— пресоленую голову селедки.
— Ахметка! Ох, обманули меня фраера, ох обманули!
— Саня, я миллион раз слушал, как тебя обманули.
— Ахметка! Они меня спрашивают: какую наколку на грудь хочешь? Я, дурак, говорю: орла хочу! Фраера резинку с трафаретом оттягивают и бац мне в грудь этими хреновыми иголками!
— Саня, я миллиард раз слушал…
— Ахметка, я сознание потерял от боли, а когда очнулся, смотри, что они сделали, падлы!
Саня яростно снял через голову футболку. Валера, Вадим и Спиридонов увидели на груди Сани синий трактор ДТ— 75 в полной деталировке.
Вадим протянул Спиридонову кассету:
— Кто это?
— Не знаю, мы вместе пианино на четвертый этаж поднимали.
— Зачем?
— Черт его знает.
Николай Рафиков посторонился, пропуская выходящих из подъезда Вадима и Валеру. Вадим посмотрел в спину Николая Рафикова, не самым лучшим образом пережившую детский сколиоз:
— Загудел кореш, еще потом не вспомнит, что я ему кассету отдал. А ты, говоришь, разводишься?
— Да, надоело все! Дома ничего не делает, друзья какие-то, чуть что — на дыбы.
— Похолодало что-то.
— Я ей уже говорил, что мое терпение не железное — еще один фортель и все!
— У тебя жетончика нет позвонить?
— Сейчас посмотрю. Раньше я ее жалел, а сейчас все! Что я мальчик, в конце концов?!
— В смысле мальчик?
— Ну, я не мальчик.
— А-а…
— Еще бочку катит, несильно, конечно, — я ее быстро на место ставлю, но теперь пусть поупрашивает.
— Сколько сейчас время?
— Я свои часы в ремонт отдал. А со своей симфонической музыкой она меня…
— Тебе в какую сторону?
— Мне налево. А если я что свое захочу…
— Мне направо, ты забегай, не теряйся. Будь здоров.
— Счастливо.
Валера немного прошел по чистенькому тротуару и остановился, чтобы придумать конечную цель своего пути, но ничего не придумал, только вспомнил, глядя на размашисто скребущего асфальт дворника Киргизова, что в детсадовском возрасте и сам мечтал посвятить этому спокойному труду свою жизнь.
Валера прижал к холодной телефонной трубке розовое ухо и забарабанил по стеклу будки пальцами.
— Даша? Это я.
— Ну и что.
— Даш, ты извини, я сорвался, а, Даш?
— Чего, Даш?
— Ну, ты меня прости, а?
Валера послушал тишину и опять пробарабанил по стеклу марш юных буденовцев.
— Даша, алло!
— Не кричи! Чего ты хочешь?
— Даш, ну что я сделал?
— А ты не знаешь, что ты сделал?
— Знаю, то есть, конечно, хотя и… Даша, я же извиняюсь. Приходи домой, пожалуйста.
— У тебя там к телефону, наверно, уже очередь выстроилась.
— Нет тут никого. Придешь?
— Когда— нибудь приду.
— Даш, ну что мы как эти, не сердись, а?
Даша устала разговаривать и положила трубку.
Татьяна Игнатьевна погладила Дашу по плечу и поцеловала в затылок:
— Ну что, помирились?
— Мам, оставь, пожалуйста.
Татьяна Игнатьевна вдруг сильно расстроилась, прижала кулачок к носу и заплакала.
— Мам, ну что ты?
Даша обняла Татьяну Игнатьевну и отвела в комнату, где у нее под общее настроение тоже набухли глаза и стали совсем синие. Взлохмаченный Василий Васильевич влетел в комнату и поднял брови коромыслом.
— Что случилось?!
— Ничего.
— Как ничего?!
— Да все нормально, папа.
— А что ревете как белуги?
— Стресс снимаем.
— Так лучше водки выпить, чем реветь.
— Кому лучше, а кому и не лучше. Тебе лишь бы выпить!
— Да когда я последний раз пил, Татьяна!
Василий Васильевич, Татьяна Игнатьевна и Даша еще немного поговорили, плавно успокоились, потом на кухне попили чай со слоеным тортом и дружно сели к телевизору смотреть художественный фильм про остроумных бандитов и недалеких полицейских.
— Дашка, давай в шахматы сыграем?
— Опять проиграешь.
— Ну и что.
Синилин проснулся в половине шестого утра в очень плохом состоянии: голова трещала, как арбуз в сильных руках опытного покупателя, желудок был набит пинг— понговыми шариками, которые время от времени поднимались вверх и, постояв в горле, пока Синилин не становился бледным, падали вниз, сердце трепыхалось полудохлым воробьем, запутавшимся в нитках юных натуралистов, печень хлюпала, сил не было и бесконечно хотелось пить. Синилин доковылял до небольно бьющего током холодильника, взял из него две последние бутылки пива и обе сразу же выпил, чтобы на глазах появились слезы облегчения и можно было с удовольствием закурить крепкую папиросу «Беломорканала», сделанную в городе Моршанске.