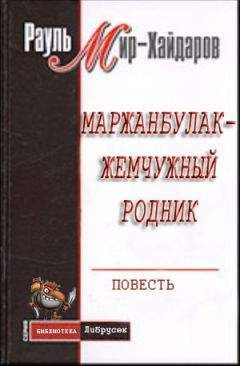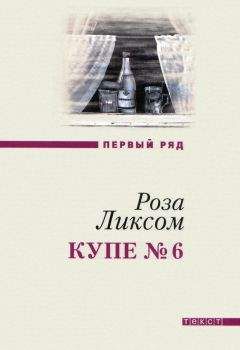— Садыков не вышел в пятницу, потому что водил корову к ветеринару; прораб Файзиев отсутствовал в понедельник — отвозил тещу в Ташкент. А Джураева не было на работе целых два дня: ездил, видите ли, сватать невесту для сына…
Все сорок минут кабинет главного инженера содрогался от смеха. Когда Мавлюда закончила, Фалин поблагодарил ее и продолжил планерку.
— Мавлюда провела тщательный анализ, и сделала это очень своеобразно, но смех смехом, а потеря тысяч часов рабочего времени всего за три месяца должна нас насторожить. Я понимаю: Файзиеву не отвезти тещу в Ташкент никак нельзя, тут свои обычаи, молодого зятя могут упрекнуть в неуважении к родне. Садыкову отвести корову к ветеринару тоже нужно, за него никто этого сделать не может… Всем надо, у всех объективные причины, и я по-человечески всех понимаю, но…
Расскажу вам случай из моей практики… Начинал я мастером на строительстве Чимкентского завода фосфорных солей, мне тогда только восемнадцать после техникума стукнуло. Вот однажды каменщица, труженица, каких мало, говорит: «Сашенька, я завтра и послезавтра на работу не выйду». Я ей отвечаю: «Хорошо, тетя Даша, только, если что, скажите на всякий случай, вам, мол, в ЖЭК или к врачу надо было…» — «Да нет,— отвечает тетя Даша,— никуда мне не надо, с утра посплю подольше, потом стирку затею, а послезавтра уж по магазинам да по базарам похожу». Я удивился: «Как же я вас с работы, мол, отпущу, это ведь явный прогул». А она отвечает: «Поставишь, милок, никуда не денешься»,— и достает из кармана тетрадку: завела, говорит, с тех пор как я мастером у них стал.
«Вот, смотри, отпрашивались все кому не лень: кто на день, кто на полдня, а ты, добрая душа, всех отпускал. Федорова, скажем, которая у тебя чуть ли не целую неделю после обеда отпрашивалась, живет со мною в одном доме, и я знаю: ни в какой ЖЭК ей не надо — по базарам да по магазинам мотается, а то к моему возвращению стирку развешивает во дворе. Так и большинство других. И, выходит, что теперь — мой черед гулять, чтобы не думали остальные, какая я дура.
Сунула мне тетрадку в руки и ушла. Просмотрел я ее записки — все точно, так оно и было, и если по-честному, пришла пора и ей пару деньков отдохнуть, оплата-то из общего котла.
После такого случая и я завел тетрадку. Отпрашивается кто, говорю: хорошо, я вас отпущу, а эти четыре часа вы отработаете, ведь сколько раз бывает нужно остаться после работы на час–другой, а то и в воскресенье выйти, чтобы к понедельнику другой бригаде фронт работ обеспечить. И как рукой сняло: через месяц у меня уже никто не отпрашивался, да и в бригаде лад появился.
Надеюсь, все уразумели, что Мавлюда сегодня не случайно выступила и историю из личной практики я не просто так рассказал.
Со следующего месяца приступаем к двухсменной работе, и каждый трудовой час должен быть на учете…
Осень в Узбекистане богата свадьбами. Как только отвезут последнюю машину хлопка на хирман, считай, каждую субботу трубят в ночи карнаи. Двух свадеб в одном кишлаке, как бы он велик ни был, одновременно никогда не бывает, потому что на торжество приглашают все село. Люди на стройке работали из всех окрестных кишлаков, и почти не было субботы, когда бы Фалина не пригласили на свадьбу. За всю свою жизнь он не побывал на стольких свадьбах, сколько за одну осень в Маржанбулаке.
Его соседи по вагончику, с кем он и ужинал, и коротал за разговором не часто выпадавшие свободные вечера, люди тактичные, никогда не расспрашивали Фалина о семье, хотя он и чувствовал, что им непонятно, как это тридцатилетний человек живет без семьи,без детей…
А ведь сын Тамары, школьник, мог быть его сыном…
На маржанбулакских свадьбах ближе к полуночи, когда ждали прибытия машины с невестой, Фалин вдруг уносился памятью далеко–далеко, в город, запорошенный по весне тополиным пухом, когда приятели называли его Санек, а она, единственная,— Сашенькой. И прошедшее казалось Фалину таким нереальным, что он вдруг начинал сомневаться: да было ли оно, это удивительное время, да еще с ним, которого теперь за глаза часто называли просто «главный».
И рисовалось Фалину в мареве знойной среднеазиатской ночи заиндевевшее узорчатое окошко, и в середине, как в рамке морозных узоров, неправдоподобно красивое оттого девичье смеющееся лицо в мужской заячьей шапке–ушанке, с выбившейся из-под нее непокорной прядкой смоляных волос.
Тамара…
Именно такой она всегда вспоминалась ему — той, которая стучалась к нему в окошко пятнадцать лет назад.
Их познакомил бокс.
Стоя в коридоре перед зеркалом, Санек корчил себе рожи, разглядывая безобразный синяк, нагло расцветший чуть не на половине фалинской физиономии и уже наливающийся спелым фиолетовым цветом, как вдруг в зеркале всплыло незнакомое девчоночье лицо в обрамлении тугих завитков темных волос.
— Больно? — неожиданно участливо осведомилось видение, и теплые пальцы чуть коснулись фалинского украшения.
Сашка сперва опешил, но услужливая память тут же поднесла ему чью-то напыщенную фразу:
— А, ерунда. Бокс — спорт мужественных.
Гордо выпяченная грудь послужила иллюстрацией к великому изречению. Видение, прыснув, растаяло, но зато накрепко засело в памяти прикосновение теплых пальчиков и низковатый, чуть с хрипотцой, голосок.
Сколько помнил себя Саша, так ласково и участливо его никто ни о чем не спрашивал, разве что с издевкой. Дело в том, что отца Фалина в родной деревне не любили, даже и по имени, не то что по отчеству редко кто называл. «Куркуль» — это прозвище крепко пристало к Фалину–старшему. Отец был мастером на все руки: и плотничал, и столярничал, и часы, и швейную машинку мог починить, и валенки свалять, и сапоги стачать… А дом у них в Аксае был на загляденье: весь в резных наличниках, крытых поверх краски еще и специальным лаком, чтобы служил дольше и краше было. Свиней они меньше четырех не держали, корова была особой голландской породы, за телочкой от нее весь район охотился, и давала она молока вдвое больше, чем соседские. Короче, не дом — полная чаша, живи да радуйся. Но не слышно было в нем ни смеха, ни веселья, разговаривали только о деньгах. Работящ, головаст был Михаил Прокофьевич, золотые руки имел, да жадность его все переборола, и застила она глаза на все лучшее, что было в нем, оттого и пристало это ненавистное — Куркуль.
Так получилось, что за отцовские грехи чаще всего приходилось страдать сыну. Хотя и добрый был малый Саша Фалин, всегда делился и пирогом, и дефицитной жилкой для рыбалки, а все равно — Куркуленыш. Пока был мал — терпел, сносил, а класса с пятого дрался чуть ли не каждый день, не разбирал — старше ли, сильнее ли обидчик. Тогда и пристала к нему еще одна кличка — Лютый, потому как дрался зло, люто, умело.
Фалин не любил Аксай так же, как не любили жители его отца, и мечтал как можно скорее вырваться из дома. После семилетки, не спрашивая разрешения родителей, он забрал документы из школы, сел на крышу почтового поезда и поехал поступать в строительный техникум в соседнем городке. Фалину–младшему казалось: уйдет он в город, получит место в общежитии — и забудется унизительная жизнь в Аксае, отомрут ненавистные клички. Но не тут-то было, учился-то в техникуме из поселка не он один. Через полгода в общежитии все знали, какой богатый и жадный у Фалина отец. Все, что он привозил из дома, куда наведывался по воскресеньям (а мать тайком от отца не жалела для единственного сына домашних припасов), съедалось старшими ребятами в первый же день, и вместо благодарности выговаривали еще: чего, мол, мало привез. Не жаль было Фалину съеденного, хотя сам потом перебивался целую неделю с хлеба на воду, обидно было, когда среди недели кто-нибудь, распахивая пустую тумбочку, язвил: «У Куркуленыша не разживешься». Были в общежитии ребята, у которых на дверцах тумбочек висели замки и которые ни с кем посылками не делились, а вот донимали его одного. Снова, как в Аксае, Фалин начал драться, и снова всплыла кличка — Лютый. Он и в секцию бокса записался, чтобы ловчей было расправляться с обидчиками.
Бокс в провинциальном городке, где он учился, был спортом номер один. Чуть ли не в каждом жэковском подвале работали секции бокса, не говоря уже о спортивных залах училищ, техникумов, заводов. Удивительно, сколько соревнований проводилось тогда за год, и все они собирали множество зрителей. Особенно популярными были соревнования на приз парка культуры. Устраивались они в день открытия парка — были некогда такие долгожданные, после долгой зимы, весенние праздники. Приз был весьма экстравагантный. Победители получали специальный жетон, дающий право ходить бесплатно весь сезон на танцы. А тогда на танцплощадках играли настоящие авангардистские джазовые оркестры, и попасть туда, если заранее не позаботился о билетах, было делом куда как не простым. И, конечно же, жетон, дававший право беспрепятственного входа на манящую танцплощадку, был ценим, как ничто другое. Впрочем, владельцам жетонов редко приходилось предъявлять их при входе: город знал своих кумиров в лицо. И джазисты, лишь слегка уступавшие в популярности боксерам, не отказывали какому-нибудь чемпиону в просьбе повторить взвинтивший зал фокстрот или томное танго, а это уже считалось высшим шиком.