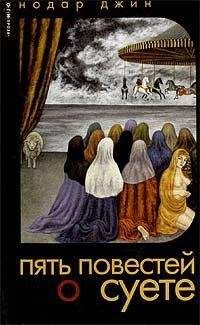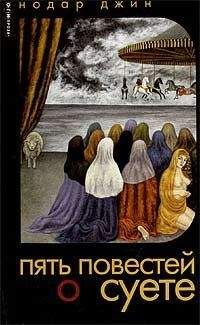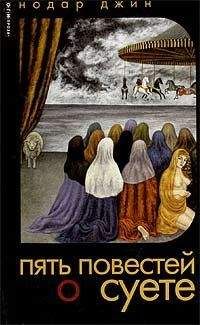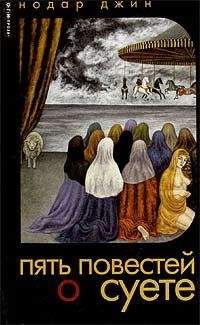У меня возникло чувство, будто всё, что я знал прежде о жизни, о любви и о смерти, стало мне вдруг известно точнее. Как если бы что-то очень важное, но существовавшее всегда рядом со мной, проникло мне теперь в самое сердце.
Сразу же стало душно, но, выбравшись из склепа, я уловил в знойном воздухе запах сирени. Хотя её нигде не было видно, росла она, должно быть, там же, посреди обступавших меня со всех сторон душистых акаций…
15. Самое трудное для сознания — сдержанность
Самое трудное для сознания — сдержанность. Оно поэтому постоянно создаёт нечто из ничто.
Когда сиреневая «Дама Цезаря» с тонкими голенями, проглотившими страусовые яйца, свернула в подъезд, выложенный чёрным мрамором с сизыми прожилками, у меня возникло ощущение, будто я возвратился в склеп персиянки. Тем более что в тесноте подъезда веющий от незнакомки запах сирени осмелел.
Сама она осмелела не раньше, чем поровнялась с лифтёром в бесцветной ливрее:
— Как вас понять? — и развернулась ко мне сиреневым корпусом.
— Сам не знаю, — признался я и подумал, что еврей-мостовик Галибов не взял бы такую в жёны даже в зените её рубиновой жизни. В отличие от лица персиянки, круглого, как новая луна, это лицо бухарец закрыл бы «ночною завесой». Оно было узким, длинным и бледным. Как лунная долька на излёте месяца.
Я обратил внимание и на аналогичное несоответствие между пышным бюстом персиянки и робкими холмиками «Цезаревой дамы».
— Кто вы такой? — осведомилась она.
— Не знаю и этого. Профессии нету. Таких называют «интеллектуалами». Правда, в моём городе «интеллектуалами» называли себя и те, кто изменял жёнам.
— Те, кто где бы то ни было называют себя интеллектуалами, заблуждаются. А если нет, то совершают преступление! — и, выждав, она добавила: — Тем, что являются интеллектуалами.
— Вы их тоже не любите? А мне показалось, что вы сами, например…
— Интеллектуалы, — перебила она, — это те, кто ничего не умеют делать.
— Как «ничего»? — перебил и я. — А думать?
— Думать — это не делать. Вы умеете думать?! — удивилась она.
— Очень! — подтвердил я.
— Нельзя говорить «очень умею»… А что ещё умеете?
— А ещё умею не думать.
— Это важнее, и мне кажется, что вы преуспели в этом больше. Хотя и догадались, что я сама — из думающих…
— Вас выдал портфель.
— Нет, — сказала она. — Это не смешно. А вы перс?
— Русский. А почему вдруг «перс»?
— У вас не русский акцент — хуже. А хуже только у персов и арабов.
— Да, я из России, но не русский. А вы откуда? То есть куда?
— Да! — ответила она. — Вы араб! Персы воспитанней…
— Впрочем, не важно — куда: просто возьмите-ка меня с собой!
— Прощайте! — и скрылась в лифте.
Оставшись один в мраморном склепе, я захотел вернуться домой и поработать над акцентом. С согласными звуками — так же, впрочем, как и с гласными — всё было в порядке: не ладилось с интонацией. Я не раз откладывал в памяти интонационные образцы американской речи, но каждый раз, когда надо было их вспомнить, забывал — где именно в моей памяти они хранятся.
Впрочем, заключил я, стремление к совершенству является признаком безвкусицы. С меня достаточно того, что с гласными и с согласными всё в порядке.
Лифт вернулся, а разъехавшиеся двери открыли мне вид на лифтёра и сиреневую даму. Это меня не удивило, поскольку лифты способны спускаться. Увидев меня на прежнем месте, не удивилась и она, поскольку — прежде, чем лифт стал подниматься — там я и стоял…
— Я беру вас с собой. Меня зовут Пия Армстронг. Я диктор телевидения.
Назвав ей себя, я отметил молча, что дикторов считают тут интеллектуалами.
— Веду вас на званый ленч, — продолжила она. — Только — никому ни слова, что мы знакомы пять минут.
— Пять часов? — предложил я.
— Мало: скажите — пять дней.
— Я прилетел из России только утром.
— Кстати! — перебила Пия. — Там, куда идём, будут говорить о России — почему и приглашаю вас, поверив вам, что вы — интеллектуал.
— А другая причина? — спросил я.
— Другой быть не может: я замужем.
— А в России другая возникает именно если замужем: брак — скучное дело…
— Послушайте: мы идём в гости к Эдварду Бродману… Крупный деятель, король спирта, новый Хаммер, затевающий роман с Москвой и часто дающий званые ленчи для интеллектуалов. Сам говорит мало, слушает и любит новые лица: новое лицо — новая голова.
— Бывает — у лица нет головы, или у одной головы — два лица.
— А гости там серьёзные и не любят глупых шуток.
Я обиделся, стал серьёзным и вошёл в лифт.
В лифте она попросила меня рассказать о себе.
Рассказ вышел короткий благодаря тому, что — хотя Бродман жил на последнем этаже небоскрёба, в пентхаузе, — лифт был скоростным. А открылся он прямо в просторную гостиную. Гостиная оказалась набита интеллектуалами. Общим числом в тридцать-тридцать пять голов. Но все — с разными лицами.
Затесавшись в толпу, я услышал вдруг русскую речь.
— Здравствуйте! — сказал я в сторону речи.
— Здорово же! — ответила дама с усами, но без талии, и оттащила меня от Пии. — Кто ты такой?
Рядом с ней стоял худосочный мужчина её возраста. В советском пиджаке, но с ермолкой. А рядом с ним — тучный и рыжий американец. Я назвал своё имя, и усатая дама возбудилась:
— Так ты же грузин! Ты же кацо! Он же грузин! — повернулась она сперва к ермолке, а потом к американцу, для которого повторила фразу по-английски, перепутав род местоимения. — Ши из джорджиан!
— А вы, извините, откуда? — осторожно спросил я.
— Я? Как — откуда?! Я ж президент главного клуба! «Творческие работники эмиграции»! Это у нас в Манхэттене, — и раскрыв пёструю замшевую сумку, она вынула оттуда провонявшую одеколоном визитку.
«Марго Каценеленбоген, президент. Манхэттен».
— Вы из Манхэттена? — не понял я.
— Да нет же, из Черновцов! Не читаешь газет? Про меня ж там всё время пишут! Я же сказала: я президент! А это Рафик. Тоже президент, только он — в Израиле…
Рафик сконфузился и протянул мне худосочную руку:
— Сейденман! А вы — давно?
— Утром…
— Он же только приехал! — опять занервничала Марго и стала искать на себе несуществующую талию. — Джерри, ши джаст кейм! Зис морнинг! — и принялась теперь нащупывать талию у тучного американца. Которого звали Джерри.
Джерри собрался было заговорить со мной, но меня отозвала Пия и представила хозяину, Эдварду Бродману, окруженному группой интеллектуалов. Пожимая им руки, я узнал по имени двух: профессора Эрвина Хау, литератора и бывшего социалиста, и Уила Багли, редактора консервативного журнала и правого идеолога.
— Пия уверяет, что вы интересный человек, — улыбнулся мне Бродман.
— Пять дней — маленький срок для такого обобщения, — заявил я, выбирая в памяти не слова, а интонацию.
— А разве вы приехали не сегодня, как сказала мисс Армстронг? — удивился Бродман.
Я переглянулся с мисс Армстронг и поправился:
— Поэтому и путаю слова: хотел сказать «пять часов».
— Со словами у вас, я уверен, наладится быстро: главное — великолепная интонация. Британская, — кивнул Бродман и добавил: — Ну, чем порадуете? Как она там?
— Кто? — не понял я.
— Россия?
— Спасибо! — ответил я.
— Пьёт? — снова улыбнулся Бродман и повернулся к профессору Хау: — Профессиональный интерес. Я предлагаю Москве свою водку, зато уступаю ей Южную Америку: продавайте там вашу «Столи» сколько влезет, а сами берите мою за бесценок. При одном условии — отпустите мне моих евреев. Понимаешь?
— Понимаю, — признался Хау, — но за твоих евреев, которые, кстати, не только твои, за наших общих евреев Москва, боюсь, потребует у тебя не дешёвую водку, а дорогую закуску.
— Извините! — обратился ко мне интеллектуал с крючковатым носом и волосатыми руками.
Оказался поэтом и приходился другом сперва просто сбежавшему, а потом уже и скончавшемуся в бегах персидскому шаху. Когда он сообщил мне об этом, я ужаснулся, ибо, если верить Пие, у меня был такой же акцент.
— Извините, — повторил он после этого сообщения, — а вы знаете, что у вас персидское имя?
— Ни в коем случае! — возмутился я под смех Пии. — Какое же это персидское имя?! Еврейское: «нэдер», то есть «клятва», «обет».
— Поверьте мне! — улыбался перс. — Я филолог: это персидское слово; «надир», то есть «зверь», «животное»…
— Нет, арабское! — вмешался теперь интеллектуал с более волосатыми руками и ещё более крючковатым носом, но с таким же отвратительным акцентом. Он был профессором из оккупированной палестинской территории. — Типичное арабское слово: идёт от арабского «назир», то есть «противоположное тому, что в зените». То есть, если хотите, «крайняя депрессия».