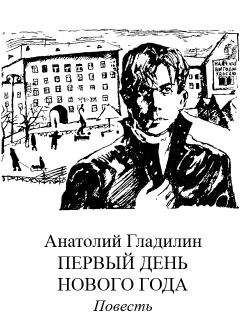— Да, — резко прервал он меня, — я все знаю.
Конечно, он обижен. Он обижен за мать. Я не должен ему говорить таких вещей. Но у меня мало времени. Как ему помочь?
— Ты понимаешь, папа, — продолжал он, — все это очень сложно. Вот буду в командировке, все обдумаю.
Сам решу. Сам обдумаю. Характер. Самостоятельность. А ты лежи и не суйся в чужие дела. Так.
Я знаю, что он меня любит. Я помню, как он приехал грязный, мокрый и очень усталый из Москвы. Пятьдесят километров на велосипеде под дождем. А у меня начался приступ. И он сел снова на велосипед и поехал за врачом за десять километров. Обратно он еле доплелся.
Я понимал, что мы мужчины. Скрываем свои чувства. Но не стыдно их хоть раз показать. Вдруг потом будет поздно?
Куда там! Его ждет девушка. Он уже нервничает и смотрит на часы.
— Ты, наверно, торопишься?
— Нет, — соврал он, — я еще посижу.
Ну посиди еще немного. Твоя девушка от тебя не уйдет. Никуда не уйдет, если она настоящая. А я еще посмотрю на тебя.
— В чем ты едешь? Там может быть холодно.
— Не волнуйся, там жарко. Но я возьму с собой свитер.
Конечно, не возьмет. Разве он меня послушается?
— Когда ты прилетаешь в Москву?
Резкая боль обожгла меня. Удар был неожиданным. Исподтишка. Началось. Я почувствовал, что на глазах слезы. Я отвернулся и вытер глаза платком. Каждое движение причиняло мне еще новую боль. Он не должен был ничего заметить.
Но, кажется, он заметил.
— Позвать врача?
Я сделал последнее усилие, и голос мой звучал спокойно:
— Не надо. Иди, Феликс, я устал.
— До свидания, папа, — сказал он, — выздоравливай.
Дальше я плохо помню, но, вероятно, он тут же сказал сестре. Она прибежала и сделала мне укол. Наркотик. Обезболивающее. На этот раз я не протестовал. Скоро боли стали стихать, и я уснул.
* * *
Я начал подозревать, что люди в белых халатах все-таки кое-что понимают в медицине. Во всяком случае, мне стало лучше. Мои товарищи, жена, Фаня, напуганные последним кризисом, просиживали у меня все время, отведенное для посетителей.
Врачи увеличили свою активность, и эксперименты надо мной продолжались.
Так что распорядок дня был весьма насыщенным.
И только ночью, когда я просыпался просматривать забытые ленты и комната светлела, а сестры еще не приходили, я продолжал вести невысказанный разговор с сыном.
Феликс вырос в семье, где мать и отец все дни пропадали на работе. Его никогда не баловали. Отнюдь. Средства у нас всегда были ограничены. Свою сознательную жизнь Феликс в основном провел в школе и в пионерских лагерях. Дома он мыл посуду и полы, выносил ведра, и вся тяжелая работа была на нем.
Правда, когда он стал студентом, мать старалась освободить его от всего.
Правда, уже на третьем курсе института он добился выставки своих работ, которая прогремела на всю Москву.
О нем появилось несколько статей. В одних его хвалили, в других ругали, но все равно отмечали, что он очень способный, талантливый художник.
Он рано стал ездить в командировки от журналов.
Один маститый журналист, который был вместе с Феликсом на строительстве Волжской гидростанции, рассказывал, как он работал.
Мороз, сильный ветер. Феликс часами сидит где-нибудь на краю котлована и рисует. Острые палочки он макает в пузырек с черной тушью. Руки мерзнут, а в перчатках нельзя работать. Застывает тушь. Когда он приносит рисунки в гостиницу — тушь оттаивает, расползается. Рисунок приходится переделывать. Наутро он снова с блокнотом бродит по котловану, а вечером — подчищает и переделывает. И так каждый день.
Он кончил институт. Его все больше ругали, но продолжали говорить, что он самый молодой и самый талантливый.
Менялся и сам Феликс.
Я стал от него все чаще слышать, что наша живопись никуда не годится. Восемнадцатый век. Его работы становились все непонятнее.
Критика заговорила о других, молодых, сильных художниках, которые устраивали свои выставки, которых выставляли, а Феликса уже не вспоминали, и Феликса уже не выставляли.
Но это его не настораживало. Он все больше убеждал себя, что только он и группа непризнанных, близких ему по духу художников делают настоящее дело, а все остальное халтура.
Я заметил, что он становится нелюбопытен, почти перестал ездить по стране, замкнулся в узком кругу своих товарищей.
Серьезных разговоров со мной он старался избегать. Наша молодежь… Среди нее есть такие, которым я все больше и больше удивляюсь. Возможно, потому, что для меня была школой гражданская война, а для них — пятьдесят шестой год. Время романтики и время анализа.
Мы жили и работали в таких кошмарных условиях, которые им и не снились. Мы построили огромное государство. Построили ценой огромных жертв. Но мы радовались успехам нашей страны. Ведь не случайно из года в год в наших газетах ежедневно публиковались цифры выполнения плана по добыче угля, по выплавке стали.
В этом была наша жизнь, наша работа. Мы были счастливы, когда, наконец, кончились пробки и аварии на транспорте, когда начал действовать Магнитогорский комбинат, Днепрогэс.
Но находятся юнцы, которые этого не понимают. «Знаем, мол, эти проценты. В зубах навязли!» Неужели и мой Феликс такой?
Увлечение квакающей, психопатической музыкой, сумасшедшей живописью, западными фильмами, книгами, модами охватило часть нашей молодежи. Не замечать эту болезнь, относиться к ней пренебрежительно, отрицать ее существование — преступление.
Значит, надо найти ее причины.
В конце концов, дело не в музыке и в одежде. Ну, черт с ними, пускай ходят в чем хотят!
Самое странное — это уход от общественной жизни в свой личный, мелкий мирок.
Но ведь мы же для вас терпели лишения, ведь мы же для вас строили!
Ведь ради вас отдали жизнь миллионы ваших товарищей, лучшие наши товарищи!
Но Феликс мой не такой.
Я раскрыл глаза. Самолет шел низко над горами. Казалось, что летим над лугом. Деревья — как травы.
Скоро земля потемнела, и замелькали огни Красноярска.
В переполненном троллейбусе я понял, почему москвичи вежливы и рассудительны. Машин в Москве много — одна ушла, другой дождешься. А сибирякам не до хороших манер. Остановился троллейбус — прыгай, другого ждать полчаса.
Мне был забронирован двухместный номер. Вторая койка пустовала. Она была тоже забронирована.
В вестибюле на чемоданах скучали приезжие. В окошке у администратора красовалась табличка: «Свободных мест нет».
* * *
Сейчас в Москве восемь вечера. Здесь — полночь. Я выспался в самолете и не знал, что же мне делать.
Я начал думать об Ире, но чем больше думал, тем увереннее приходил к выводу, что самое лучшее — пока об этом не думать.
И тогда я вспомнил больницу. У отца опять начался приступ. Я правильно сделал, что ушел от разговора. В его положении сейчас не надо нервничать. Опять приступ. Еще один.
А может, надо было с ним поговорить?
Ведь мне очень многое надо узнать. Кто мне расскажет о том времени, как не мой отец?
Кажется нет ничего естественнее, как прийти и сказать: «Папа, скажи мне, как жить?»
Просто прийти и попросить. И самое главное, я очень хочу его послушать, а он — меня. Но я не смогу заставить себя произнести эту фразу: «Дорогой папа, скажи мне, как жить?» И даже если все пойдет вверх ногами и я вдруг сумею выговорить эти слова, отец на меня посмотрит как на нездорового. Настолько это не вяжется с моим характером. Боюсь, что он тут же сунет мне градусник и вызовет врача.
В чем здесь дело? Вероятно, в том, что мы очень похожи. Один характер. Мы слишком самостоятельны и не любим лезть «сапогами в душу» другого человека. Вероятно, мы очень доверяем друг другу. Но вот эта внешняя самостоятельность, антиштамп, — во всех семьях люди откровенны, а мы вроде нет (именно потому, что, как нам кажется, мы все понимаем до конца) — и мешает откровенному разговору. Я первый не начну. Уверен, что если бы в наших отношениях легла какая-нибудь трещина — мы бы объяснились. Но все эти нюансы характеров осложняют нашу жизнь. А у кого просто?
Правда, иногда отец меня удивляет, иногда — наоборот. Я ясно вижу, о чем он думает.
Однажды я пришел к нему на работу. В приемной было много посетителей. И тут же сидел один из его сослуживцев, полный, солидный старик. И все его робко о чем-то спрашивали и почтительно выслушивали его ответы.
Появился отец, сел за свой стол. Вокруг него столпился народ, и сослуживец начал что-то важно докладывать.
— Замолчите, — громко прервал его отец, — дайте мне выслушать человека.
Солидный, толстый старик покраснел и смутился, как мальчишка.
Потом я спросил отца, почему он так резко прервал старика.
— Сергеева, что ли? Он просто дурак!
Может быть, отец был прав, но я никогда не забуду беспомощного взгляда старика и того холодного равнодушия, которым сразу прониклись все посетители к сослуживцу моего отца.