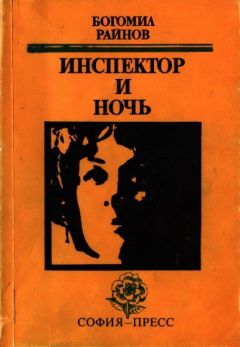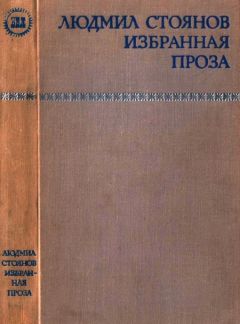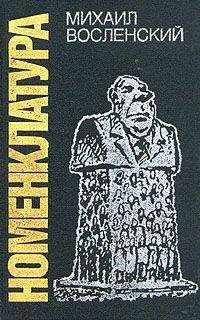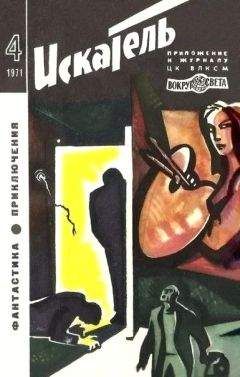— Но ты забываешь про вторую рюмку.
— Если она так тебя волнует, допей её и поставь точку, вторая рюмка… Может, перед этим к нему зашёл приятель, и они выпили вдвоём.
— Человек, решивший покончить с жизнью, вряд ли станет распивать с приятелем, — говорю я не столько Паганини, сколько самому себе.
В это мгновение судебный медик, осенённый идеей-молнией, приподнимается со стула и победоносно произносит:
— Слушай. Всё ясно — приятель его был врач. Они выпили, и Маринов, задавая исподволь вопросы, узнал страшный диагноз. Потом, когда врач ушёл к себе, больной, подавленный известием, глотнул цианистого калия.
— Ты доведёшь меня до нищенской сумы с твоими версиями, — отбиваюсь я устало. — И сядешь на моё место.
— Очень мне нужно твоё холодное место, — усмехается Паганини. — Дарю тебе эту версию. Лови.
— Ты мне покажи лучше акт вскрытия, а версию пока попридержи. Нет! Погоди! Стой!
Осенённый в свою очередь идеей, я хватаю Паганини за плечо.
— А откуда тебе, старому чёрту, известны все эти подробности? Уж не ты ли тот врач, который выпивал с Мариновым?
Между тем, как говорится в протоколах, наступил конец рабочего дня. Я покидаю кабинет, но из этого отнюдь не следует делать поспешного заключения, что мой рабочий день закончился. Я и те, что вроде меня, исключение: работаем всё равно, что сдельно. Пока убийца гуляет на свободе, об отдыхе нечего и думать.
Шагаю по улице под дождём, охваченный ностальгией. Ностальгией по старому дому. Не родному, которого, кстати говоря, я не помню, а по дому Маринова. Когда я, наконец, вхожу во двор, сумерки уже сгустились. Ветер гнёт ветки каштанов, но эти подробности пейзажа воспринимаются скорей на слух. Тускло светится лампа над подъездом. Катя с хозяйственной сумкой в руках чуть не сталкивается со мной в двери.
— А, товарищ начальник! — восторженно восклицает женщина-водопад, словно моё появление у них — просто предел мечтаний. — А я вот в магазин собралась…
— Идите, идите, не беспокойтесь. Мне надо только поговорить с вашей племянницей. Формальность…
— И мне тоже сердце подсказывало, что вы зайдёте; я ей говорю — не уходи, может, тебя товарищ начальник будет спрашивать, очень симпатичный человек, тот, который ведёт расследование. Да где там — разве удержишь. Эти нынешние такие — минутки дома спокойно не посидят. Сделает себе маникюр, покрутится перед зеркалом — и после ищи-свищи. Я вот даже Маре говорю: знаешь, говорю, Мара, эти нынешние…
— Простите, что я вас перебиваю. Вы не помните, в котором часу вернулся вчера вечером товарищ Димов?
Глаза женщины заговорщически щурятся. Она наклоняется ко мне.
— Товарищ Димов был вчера в Ямболе. Так он нам сегодня объявил. Но пусть другим рассказывает сказки. Уж я-то знаю, кто здесь, а кто не здесь. Каждый, кто возвращается домой, проходит мимо моего окошечка, и я вижу его ноги, и вчера видела ноги Димова — поздненько он воротился.
— До или после полуночи, не помните?
— До. Точно помню, что до. Я уж потом, когда он прошёл, встала попить и взглянула на часы — не было и полдвенадцатого…
— Вы, видать, беспокойно спите.
— В нашем возрасте ведь всегда так — спишь, не спишь — даже и не поймёшь.
— А говорите — ничего не слышали, что делалось у Маринова.
Женщина взвешивает, не сболтнула ли она чего лишнего, потом с неуверенной улыбкой говорит:
— Нет, ничего. Если б слыхала, почему бы и не сказать.
— Хорошо, хорошо, — отвечаю я. — А Колев и Славов дома?
— Доктор здесь и товарищ Славов тоже. Да и я мигом ворочусь, только б мне с Марой, моей подругой, не встретиться. Хорошая женщина, товарищ начальник, да ужасная болтушка… Уж на что я не из молчаливых — знаю за собой этот грешок, но Мара, моя подруга, уж действительно не знает никакой меры. Да и то сказать, товарищ начальник, привыкли уж мы с ней так-то. Бывало бегаешь день-деньской, умаешься, а когда освободишься — куда деться? В кино или там в кафе, как этих нынешних, не пригласят. Всей-то радости, что выйти на улицу да почесать язык с соседками — за это денег не берут…
Спускаясь в подвал, я представляю, как, усевшись, бывало, в кружок на низеньких стульчиках перед домом, женщины судачили до позднего вечера, и у меня проносится мысль: не так-то уж радостно жила эта женщина, если для неё единственным удовольствием была бесплатная болтовня. Хотя это, конечно, ещё не оправдание для того, чтобы врать в глаза.
Подвал скудно освещается лампочкой. За дверью Колева — оживлённые голоса. Мужской и женский. О чём-то разговаривают. Но так как подслушивать не в моих привычках, я решительно стучу. Дверь приоткрывается, и в щель просовывается голова Колева. Нельзя сказать, чтобы выражение его лица было очень гостеприимным.
— Опять я, — срывается у меня с языка довольно глупое замечание.
— Понятно, — холодно кивает Колев. — У меня тоже ненормированный день — могут вызвать в любое время. К сожалению, я сейчас не один — родственница зашла…
— Я хотел уточнить одну подробность, но раз так, оставим до завтра, — покладисто соглашаюсь я.
Доктор колеблется и, закрыв за собою дверь, делает шаг вперёд.
— Если только одну подробность… А то я, грешным делом, подумал — уж не решили ли вы повторить исчерпывающий осмотр, как утром.
— Не бойтесь, раздеваться не понадобится.
Я вынимаю коробку сигарет и угощаю собеседника.
— Ну, — немного нетерпеливо торопит меня Колев.
— Вы тогда мне, помните, сказали, что покойный был здоров, как бык.
— Да, совершенно верно.
— А забыли добавить, что у быка был, оказывается, рак.
— Рак?
Колев кажется удивлённым, но нельзя сказать, чтобы слишком.
— Да, рак. Может, вы и принадлежите к школе, которая считает рак пустяком, преходящим недомоганием, но всё же надо было упомянуть эту незначительную подробность.
— Как я могу упоминать подробности, которые мне неизвестны.
— Маринов никогда не говорил вам о раке — вообще или в частности?
— Никогда.
Тон категоричен. Выражение лица — тоже весьма категорично.
— А яду у вас, случаем, не просил? Цианистого калия или чего другого?
— Нет. Я вам уже сказал — он сам отравлял окружающих и притом без специальных препаратов.
— Понятно. Но речь в данном случае идёт о нём самом, а не об окружающих…
Дверь за спиной доктора в этот момент резко распахивается. На пороге вырастает стройная девушка с красивым и — чтобы быть объективными — недовольным лицом. Она бросает на меня беглый взгляд.
— А, у тебя гость. Я думала — куда ты делся…
— Товарищ из милиции, — объясняет Колев, не очень обрадованный появлением родственницы. Потом, вспомнив о правилах поведения, процеживает:
— Познакомьтесь.
Мы подаём друг другу руки.
— Вы тоже гинеколог? — спрашиваю.
— Нет, биолог, если это интересует милицию, — усмехается она.
— Биолог? До сих пор хорошенькие девушки шли прямой дорогой в кино, а теперь — извольте — в биологию. Дожили, нечего сказать.
— В жизни нет ничего непоправимого, — снова улыбается девушка. — Если подыщете мне что-нибудь в кино, можете, позвонить.
Она слегка кивает головой и, подчиняясь взгляду Колева, снова исчезает за дверью. Подумать, какой ревнивец!
— Симпатичный биолог, — ухмыляюсь я. — И родственница к тому же.
— Вам не кажется, что ваши мысли работают не в служебном направлении? — прерывает меня врач.
— Что поделаешь! Шерше ля фам, как говорят французы, когда принимаются изрекать избитые истины. Но вернёмся к нашему вопросу: скажите, с кем ещё из врачей советовался Маринов?
— Насколько мне известно, ни с кем. Стал бы он тратить деньги на лечение. Да и не было особых причин.
— Кроме рака, разрешите добавить.
— Не допускаю, чтоб он знал о раке. Во всяком случае со мной он об этом не говорил.
— Значит, тезис о самоубийстве отпадает, — бормочу я себе под нос.
— Что вы сказали?
— Ничего. Просто подумал вслух. Как в романах. Или в сумасшедшем доме. Сам спрашиваешь и сам отвечаешь.
— В таком случае я становлюсь третьим и, пожалуй, лишним собеседником.
— Да, да, идите к своей родственнице. Свой своему поневоле друг.
Вслед за этим я поворачиваюсь кругом и направляюсь к двери Славова. На стук мой никто не отвечает. Я нажимаю ручку двери, и она легко поддаётся. В помещении никого нет, но в нише, прикрытой полиэтиленовой занавеской, слышится плеск воды.
— Одну минутку, — раздаётся приглушённый голос из-за занавески. — Можете подождать в комнате.
Передо мной — неширокая постель, застланная безупречно чистым одеялом. Я сажусь и приготавливаюсь ждать. Постель оказывается мягкой, и я позволяю себе прилечь, сдвинув в знак отдыха шляпу на затылок, и блаженно закурить.
Обстановка комнаты не роскошная, но довольно-таки уютная. Словно хозяин задался целью доказать, что и холостяк — тоже человек. И я лелею скромные планы в отношении своей квартиры. Просто откладываю их, пока не решу одну маленькую личную историю. Историю, которая, как я уже упомянул, началась однажды летом на дансинге.