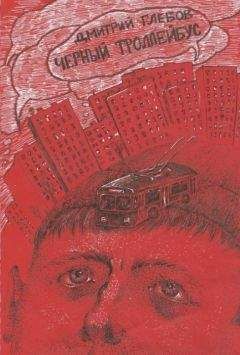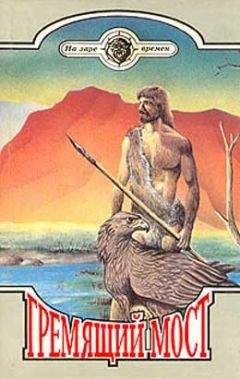Я любил ее еще сильнее, еще крепче и как-то заново и опять чувствовал себя Квазимодо или Торквемадой, если между ними есть какая-то разница, и думал о том, что, может быть, я лучше пишу стихи, может быть, я рожден больше для какой-нибудь живописи, нежели для фигурного катания. Потому что если это не так, то дела мои очень плохи.
Чтобы оторваться от обремененных Лизкой Старковых, мы не сговариваясь перетасовались с толпой, укатили подальше от шумного столпотворения и стали кататься на сумеречном краю, где музыка была слышна как-то отвлеченно, потерянно и редкие шумноголосые метеоры не мешали мне чувствовать себя в уединении с моей изящной великаншей.
Она то и дело проплывала мимо меня, самозабвенно катилась ласточкой или мчалась спиной, оглядываясь по направлению движения, и, чуть выставляя попу, егозила узенькими зигзагами. Мне же оставалось только неприкаянно ковылять примитивной елочкой, смотреть на нее исподтишка из тумана пьянящей зимней усталости и делать вид, что нет для меня в ее виражах ничего особенного.
Но вот она вытащила меня за руки из моего оцепенения и завертела, обратив ко мне освещенное лицо, окруженное несущейся вокруг нас белибердой из смазанных фигур, фонариков и довлеющей над затылками тьмой космоса. И когда мы кружились, взявшись за руки, и когда она, оторвавшись от меня, одна выполняла фигурные волчки, я чувствовал ее вес, слышал хищный шорох лезвий по льду и все думал в каком-то глубоком влюбленном погружении, думал о ее словах, о дурацких фавнах, о смерти, о том, что она беременна.
Вдруг она с лету обняла меня, отчего мы едва вместе не грохнулись, прильнула ко мне ледяной щекой и сладко, по-кошачьи, зажмурилась.
— Вспоминай меня всегда такой, как сейчас, — сказала она мне на ухо, — кто знает, что еще станет с нами…
Она говорила страстным полушепотом, притворным и шаловливым, но для меня в тот момент абсолютно искренним. И мне становилось жутковато, но я утешал себя мыслью, что, скорее всего, эти фразы она где-то услышала или вычитала. Потом Сима внезапно выпустила меня и быстро понеслась, стремительно, как по воздуху, чуть расставив руки и набирая скорость. Понеслась прочь от испещренного рекламами ограждения в темное, совершенно неосвещенное поле катка и затанцевала где-то там вдали, возле другого берега, где совсем никого не было. И вот когда она уже была так глубоко во мраке, что я, стоя в пограничных владениях софитов, едва различал ее, она неуклюже поскользнулась и, кажется, даже грохнулась. Я сорвался с места и понесся к ней, не веря своему небывалому счастью.
Я мчался от света, от голосов, от распадающейся в пустоте музыки, и мне казалось, что я никогда не добегу и она навсегда останется от меня на немыслимом расстоянии, где-то в холодной тьме.
«Провалилась!» — жахнуло в моем сознании. Дыхание перехватило, сердце заколотилось под самым горлом, забило в висках. Что делать?! Куда бежать? К ней или за помощью? Я уже слышал неестественно близкие, словно искусственно усиленные в пустоте всплески воды, постукивание и поскрипывание льдин и, кажется, даже разок видел мелькнувшую в воде черную голову. Внезапно даже для себя я резко развернулся, отчего упал, сильно ударившись локтем и затылком, неуклюже поднялся и, шатаясь, двинулся в обратную сторону. Но я был не в силах вырваться из этой адской пустоши к людному празднику, полному смеха, музыки и электричества. Людей я видел отчетливо, но никто из них не видел меня. Все они были так близко и так бесконечно далеко, я хотел кричать, звать на помощь, но дыхания у меня не было. Как болван я еще раз развернулся, вновь едва не грохнувшись, и с широко открытыми в отупении глазами покатился туда, где было страшно и куда мне совсем-совсем не хотелось возвращаться. Потемневший лед под коньками хищно и утробно поскрипывал. Я остановился метрах в десяти от черного чуть парящего провала с взволнованной водой и замер, не смея двинуться.
Все дрожало, хрипело и холодело во мне. Яма была очень широкая. Казалось, в нее провалился автомобиль, а не тонкая, легкая девушка. У ближнего ко мне края что-то покачивалось, тяжело бурлило и судорожно ворочалось. Я даже поначалу не понял, что это она. Я думал, рыба или чудовище. Но через секунду я догадался и на неверных, ватных, разъезжающихся ногах немного приблизился.
Я увидел две очень яркие красные руки и напряженные тонкие пальчики, вцепившиеся в ломкий край льда. На пару секунд ее голова выныривала с широко раскрытым ртом, тогда край обламывался, и она, не успевая глотнуть воздуха, снова проваливалась, и ее судорожные пальцы опять чудом цеплялись за край. Потом она снова появлялась, но край ломался, и течение неумолимо влекло ее за собой. Маленькая голова выныривала, гладкая и блестящая. Черная вода в легком пару густо качалась и, поблескивая, вставала горбиками. Лед кругом хрустел и дробно потрескивал. Доносившиеся до меня звуки казались незначительными. Можно было решить, что кто-то просто дурачится. Я подумал, что Сима не может умереть, так как это (так же как ее полное имя) плохо, точнее, вовсе не сочетается с ее несерьезным образом.
И вот она все показывалась и цеплялась с какой-то бессмысленной добросовестностью, а я стоял и тупо смотрел, словно стараясь сфотографировать в памяти все это дикое и невообразимое. Как, знаете, когда смотришь на что-то навсегда уходящее, стараясь увидеть его таким, каким будешь вспоминать потом. Смотрел на лоснящееся от воды лицо, слегка розовое, неожиданно черные, облегающие голову гладкие волосы и бледные губы, и голый выпуклый лоб, цепкие тонкие пальчики. Я знал, что мне стоит только до нее дотронуться, как она смертельно в меня вцепится и утащит навсегда в свое страшное свинцовое царство.
Когда она в очередной раз вынырнула, лед, словно не желая простить мой испуг и неопытность, промолчал и, лишь слегка скрипнув, удержал ее. Она застыла с неестественно широко раскрытыми глазами и судорожно, словно рыба на песке, пыталась сделать глоток воздуха.
Первые секунды длилось зловещее безмолвие. Потом я услышал, как она, давясь, дважды кашлянула и проглотила немного воздуха. Шипя от напряжения, она тихо и раздельно произнесла чужим низким голосом:
— Брось мне куртку! Выта…
Она задохнулась и не смогла досказать, но потом снова глотнула воздуха:
— Не стой, дурак! Сними куртку!
В глазах у нее теперь была бессмысленная рассеянность, губы плотно сжимались после каждого произнесенного слова. И все человеческое во мне кричало: «Сделай что-нибудь!» А бесовское властно повелевало: «Не дыши и не двигайся». И я не хотел, а повиновался последнему.
Она замерла и посмотрела на меня с осмысленной строгостью. В ответ на это я повернулся к бесконечно далекому веселью и тихо добросовестно позвал на помощь. Не знаю, кого я обманывал.
За лед она держалась теперь не пальцами, а подбородком, растопыренной кистью и целым предплечьем. Внезапно лед под ней лопнул двумя большими пластами, и она молча исчезла между этими покачивающимися свинцовыми крыльями.
Я моргал и не мог поверить, что это конец и что вот уже над черной смеющейся поверхностью воды окончательно сомкнулся колышущийся занавес. Вода уже успокаивалась и, играя обломками льда, завивалась и текла в одну сторону.
«Не уходи», — промелькнула в уме обычная грустная фраза, которую я говорил про себя в тысяче других случаев, когда она хоть ненадолго оставляла меня. «До свидания, Симочка! До свидания, моя милая!»
Я аккуратно сел на лед и закрылся рукой от ямы и от всего неотвратимого, всего настоящего и страшного. Секунд через двадцать или двести медленно подкатились два больших человека на прямых, словно деревянных, ногах и замерли на большом от меня расстоянии. Лица у них были как в театре пантомимы, белые, с румянцем и совершенно одинаковые. Они жестами, чуть подавшись вперед, с мольбой на лицах подзывали меня к себе. Но я плакал и не хотел слушать их.
Когда слух вернулся ко мне, на месте двух возникла уже целая компания, и первые два, расставляя руки, никому не позволяли подойти ко мне. Женщины галдели как на базаре и препирались с мужчинами. Казалось, вот-вот расплачутся. Я лег на жесткий студеный лед, вытянувшись во весь рост, зажмурился, нос у меня тут же горько заложило, и я широко раскрыл рот. Падали редкие мелкие и колкие снежинки. Они липли под носом к верхней губе, превращались в щекочущую влагу, холодившую веки и остужавшую слезы, прохладно скользившие по вискам.
Мне кажется, я никогда не прощу себе. Ни того, что я тогда ничего не смог сделать, ни того, что пишу это. Ведь я так любил и люблю ее. И с ней ушло столько всего моего. Словно внезапно оборвавшаяся мелодия, словно лопнувшая кинолента. Прости меня! Но я все равно обязательно напишу обо всем этом. Потому что иначе твоя черная вода однажды захлестнет меня, и я никогда из нее не выберусь.
Хотя иногда этот страх оставляет меня, кажется навсегда исчезнувшим, и тогда я представляю себе, как прыгаю за тобой, захлебываюсь в твоих объятиях и навсегда остаюсь в твоем медлительном подледном царстве, где ты, безучастно замерев, как зачарованная, увлекаешься молчаливым течением. И когда я сознательно представляю это, страх подолгу не возвращается. И это даже хорошо, что тебя не нашли и по весне ты сможешь всплыть в какой-нибудь чирикающей глуши из ослепительной солнечной мути, где вьются пчелы над травами, блестят паутинки и бесшумно порхают белые весенние бабочки.