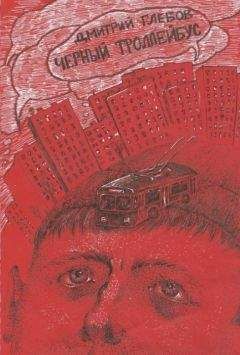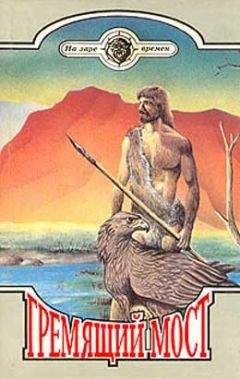Хотя иногда этот страх оставляет меня, кажется навсегда исчезнувшим, и тогда я представляю себе, как прыгаю за тобой, захлебываюсь в твоих объятиях и навсегда остаюсь в твоем медлительном подледном царстве, где ты, безучастно замерев, как зачарованная, увлекаешься молчаливым течением. И когда я сознательно представляю это, страх подолгу не возвращается. И это даже хорошо, что тебя не нашли и по весне ты сможешь всплыть в какой-нибудь чирикающей глуши из ослепительной солнечной мути, где вьются пчелы над травами, блестят паутинки и бесшумно порхают белые весенние бабочки.
Глава вторая
Любовники нашей бабушки
1
Глупо рассказывать теперь, в каком я был шоке, и как это все отразилось на мне и на всей семье, и что было в первые дни. Все и так понятно. Дом погрузился в траурное безмолвие. Мой мир был расщеплен. Прежние поиски в дебрях дома, в завалах книг, покрытых пылью и плесенью, вызывали у меня отвращение. Как только появлялась мысль о чердаке, сразу же приходил образ дохлой крысы, найденной на дне сундука. Я чуял присутствие этой крысы в каждой комнате. Вечера без Симы осиротели. Я так привык к ней, к ее голосу, что родной дом без нее был мне странен. Но в то же время казалось, Сима вот-вот войдет и запросто, конечно, какой-нибудь гадостью, рассеет все мои видения и отчаяния. Я по-прежнему живо любил и ненавидел все ее штуки.
Пару недель я не мог прийти в себя. Первые дни даже не мог спать один и перебрался с раскладушкой к бабушке. В школу опять не ходил — новые пропуски списали на ту же корь и повели в халупу через дорогу отливать воском к какой-то сухой старухе. Правда, потом один священник надавал маме по ушам за это бесовское предприятие. Да мне и самому, честно говоря, не понравилось. Когда поняли, что отливание не помогло, повели к психиатру.
— Уэл, уэл, уэл, Александр Васильевич, — говорит мне пожилой врач, не глядя на меня, а листая какие-то бумажечки (возможно, мою легендарную автобиографическую историю болезни). — Давайте займемся вашим случаем. — И только тут поднимает сонливый взгляд, вздыхает, мнет и переплетает пальцы решеточкой.
Весь какой-то долговязый, лысый, изломанный, в огромных выпуклых очках, делающих его похожим на филина. Пальцы длинные, костистые, ломкие, он играет ими, то выгибая, то силясь дотронуться средним пальцем до предплечья, словно желая показать вам, какое он все-таки удивительное чудовище.
— Давайте рассказывайте мне свои приключения.
«Я что тебе, сказителем нанялся, гундосый козел?» — подумал я, но не сказал, так как на кушетке, хоть раньше я и думал, что беседы с психиатром проходят исключительно конфиденциально, сидела мама, и мне пришлось как-то выкручиваться.
— Видите ли, у меня умерла тетушка.
— Что вы, совсем-совсем? — спрашивает доктор взволнованно и озадаченно. Короче, уже тут я понял, что ему самому диагноз пора устанавливать.
— Под лед провалилась на глазах у нашего мальчика, — подсказывает мама сзади. — Сестра моя младшая.
— Замечательно, — говорит доктор и чмокает ртом над бумажками. — Что же поделаешь? Психологическая травма. А как себя сейчас чувствуете? Что-нибудь беспокоит?
— В смысле? — спрашиваю.
— Ну, вообще, что-нибудь беспокоит?
— Здоровье родителей, — говорю.
— Восхитительно. А что конкретно вас беспокоит в здоровье родителей?
— Ну, чтобы не болели. Жили долго. Чтобы наших с Лизкой детей увидели.
— А что у вас с Лизкой? — внезапно оживился доктор.
— Ничего, — отзываюсь, уже подергиваясь от смеха. — Это сестра моя младшая. — Что болтать-то, давайте я вам лучше принесу свои психоанализы. Как вам угодно, в коробочке или в баночке?
— Остряк, остряк, — цокнув зубом, заключил доктор и начал что-то искать в своих папочках.
— Знаете, доктор, — вмешивается мама взволнованным кротким голосом, — мы несколько недель назад застали нашего мальчика в одной кровати с покойной девочкой. А потом они еще баловались презервативами. Это тоже могло каким-то образом оставить след на его психике?
Доктор еще более оживляется, а я уже тихо покатываюсь. Не хочу, а хихикаю.
— Значит, выходит, — крайне озабоченно сдвинув косматые брови, говорит доктор, — тут целый букет. М-да. И были ли у вас какие-нибудь соития?
— Какие именно? — глухо переспрашиваю я, специально, конечно, едва сдерживая смех.
— Ну, касались ли вы ее с перевозбуждением, проявляли ли интерес к ее половым органам?
— Да, я только и делал, что думал о ее органах.
И тут я уже начинаю ржать не понарошку. Я ржу так, как ржут, когда нельзя даже улыбаться, я ржу так, как ржут, когда вокруг серьезные лица, на которых темнеет суровое осуждение. Я уже ржу как бешеный, как сумасшедший псих из обитой войлоком комнаты. Глаза у меня наполнены слезами, и я боюсь, что, если через минуту наваждение не кончится, я либо задохнусь, либо все обратится в рыдание, и тогда меня точно запрут с психами.
— Вы, молодой человек, держите себя в руках. Успокойтесь. А она проявляла какой-нибудь интерес к вашему телу или поведению?
— Никогда! — говорю я, утирая слезы и отчаянно борясь с приступом.
— А вам когда-нибудь удавалось дойти с ней до полового слияния?
— Какого-какого слияния? Гы, гы, гы, гы, гы…
— Ну, постельного сближения?
— Ну конечно! Она же моя тетушка, — кошу под дурака. — Но мы с ней ни разу не целовались, если вас это интересует.
— Могла ли она быть беременна?
— Она говорила… Говорила, что беременна.
Опять меня начинает разбирать нездоровый хохот. Бедная моя мамочка.
— Так, — озадаченно говорит доктор. — Скорее всего, это было суицидальное действие.
— Доктор! — едва не падая в обморок, говорит мама. — Разве она могла зачать от нашего м-мальчика?
— Здесь все, знаете ли, зависит от фазы полового созревания, — пускается в рассуждения доктор, устраивая целый спектакль летающими кистями рук с ломкими пальцами. — А она, как известно, у всех людей разная. Очень редко, но бывает, что и к шести годам мальчики уже способны к зачатию. У человека возрастные рамки полового созревания подвержены индивидуальным колебаниям. У девочек от восьми до семнадцати, у мальчиков обычно от десяти до двадцати лет. Но бывает и раньше, много раньше. И вы знаете, я заметил, что чем поспешней у человека приближается фаза сексуальной зрелости, тем чаще у него встречаются психические отклонения. Вот вы когда именно начали замечать у своего сына эрекцию?
— Что-что замечать? — испуганно переспросила мама.
— Ну, стояк, подъем, мужское возбуждение…
Ой, сдохну, боюсь…
— Я не знаю, — бледнея, говорит мама.
— Может быть, вы, — обращается ко мне, щурясь и поигрывая длинными пальцами из фильма «Чужие», — помните, когда у вас начались эти мокренькие снишки, маленькие, но столь неудобные неприятности, аварии с нашей затвердевающей пушечкой…
И после этого он еще думает, что я сумасшедший, и пытается применить ко мне свои горе-теории. Наконец я не выдерживаю и говорю:
— Знаете, доктор, я прекрасно помню все ваши фрейдовские штучки и для меня давно уже не секрет, что каждая приличная девочка мечтает о сексе с отцом и жестоком групповом изнасиловании. Однако давайте говорить с вами на языке здорового человеческого общения, а не этого, простите, айболитовского сюсюканья — снишки, пушечки…
Долговязый доктор молча грызет дужку очков, смотрит на меня с апатией, как бы надеясь, что тормозов у меня не хватит, меня заклинит, и я еще раз выскажусь по второму кругу или упаду, забьюсь в конвульсиях.
— Ну что ж, — говорит после паузы, — давайте попробуем, — и только тут слегка меняет позицию длинного туловища. — Когда вы впервые вошли в нее?
— Куда? — спрашиваю.
— В тетушку.
Идиот! Осел! Шарлатан! Бездарный хиромант!
— Как я мог войти в свою тетушку? Это что-то из области религиоведения? Я что, злой дух или еще какое-нибудь бестелесное привидение?
Внезапно доктор потемнел и строго спросил:
— Вы с ней занимались сексом? Ну… Трахались? — Очевидно, это была последняя капля его клинического мастерства.
— Конечно, нет! — говорю, вскакиваю со стула и возмущенно оглядываюсь на белую как стена мать.
— Так чего же вы мне голову здесь морочите?! — говорит доктор все еще раздраженно, но сразу немного расслабившись.
— Малыш, — жалостно пищит с кушетки мама, — а от кого же она тогда могла быть беременна?
— Она говорила, от фавна.
Доктор отклоняется от меня в сторону, чтобы задать вопрос маме:
— Кто это?
— Ей-богу, не знаю, — открещивается мама.
— Как это не знаете?
— Впервые слышу! Я не следила за всеми ее знакомствами. Она была довольно трудной. Поздней в нашей семье и к тому же рано потеряла родителей…
Доктор хмурится, как прокурор. Наверное, у него было две профессии. Нет, три — он еще подрабатывает позером у скульпторов, любящих помпезно неправильные тела.