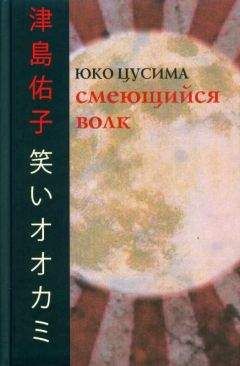— Он умер уже. Только это был мой старший брат. Болел очень с младенчества.
Он повесил голову, пробормотал что-то невнятное себе под нос и сказал:
— Ну ладно, я пошёл. Ты маму береги. Одной-то тяжело… Да, извини, забыл совсем… Зовут меня Мицуо Нисида.
Я не всему поверила из того, что сказал этот парень, назвавшийся Мицуо Нисида. Тогда, пять лет назад… Кое-что он, видимо, знал о самоубийстве моего отца. Может быть, он заявился к нам наполовину из любопытства…
Когда отец погиб, об этом довольно много писали в газетах. Да и потом ещё иногда упоминания об этом инциденте появлялись в прессе как о происшествии, символичном для периода «послевоенного хаоса». Корреспонденты даже приходили к нам домой, надеясь разжиться материалом о семье погибшего. Потому-то моя мама стремилась навсегда порвать с мучительным прошлым. Я и сама росла не таким уж безмятежным ребёнком.
Правда, я сомневалась, можно ли доверять какому-то Мицуо Нисида, но в то же время меня привлекала загадочность этого дела. Хоть я и мало что знала о нём, неприязни к этому пареньку я не испытывала. Мне будто бы хотелось заглянуть в тот неведомый и страшноватый мир покойного отца, которого я никогда не знала.
Недели через три я ещё раз повстречалась с Мицуо Нисида и опять ничего не сказала об этом маме.
Мицуо стоял на трамвайной остановке неподалёку от нашего дома. Я как раз приехала на трамвае после школы и сразу увидела его там. Как ни странно, ни удивления, ни испуга я не испытала.
— Ты что здесь делаешь? — спросила я, подходя к нему в своей школьной форме.
На нём была точно та же форма, что и в прошлый раз. Мицуо покраснел и сказал:
— Да вот… Тут у меня одно дело было… А потом я подумал: может, Юки на этом трамвае ездит в школу. Гляжу — а ты и впрямь из вагона выходишь! Ты что, всегда в это время из школы возвращаешься? Тяжело, небось? Школа-то далеко?
Я кивнула, сказала, как называется моя школа и где она находится. Может быть, в тот раз я вела себя слишком неосторожно. Если бы я ему тогда ничего не рассказывала, то, наверное, и не появилось бы повода отправиться в наше «путешествие».
А потом уж я сама, будто захлёбываясь, выплеснула на Мицуо все свои огорчения, рассказала ему про свою школу для девочек, которую вовсе не за что было любить: про старое тёмное здание, про учительниц-монашек, про обязательные для всех мессы, про бесконечные повторения молитв и псалмов за завтраком, обедом и ужином, про эти льющиеся из динамиков во время ланча странные рассказы о святых и мученицах. Я очень ругала эту противную школу, где так сурово обращаются с ученицами, но в душе я, может быть, даже гордилась нашей женской школой, куда я поступила по настоянию мамы, сдав трудные экзамены. Ведь сирота Мицуо, возможно, и не знал, что на свете есть такие необыкновенные школы, обучение в которых стоит страшно дорого. В этих моих рассказах Мицуо, наверное, слышалась отчуждённость и даже враждебность, но он продолжал слушать, никак не обнаруживая своих чувств. А недели две спустя, когда я вышла из школы, он поджидал меня у ворот. Наверное, мои рассказы ему врезались в память. Хотя он едва ли понимал, что именно со мной происходит в школе.
Мы проговорили минут пятнадцать, а когда уже почти распрощались, я, спохватившись, спросила:
— А ты что, собирался к нам зайти? Или заблудился?
— Да так, случайно…
На смуглом лице Мицуо выступил пот. Он покраснел от смущения.
— Вроде, сегодня не воскресенье. У тебя что, выходной на работе?
Допрашивала я его с пристрастием, и звучали мои вопросы довольно нахально. Мицуо побагровел ещё больше.
— А у меня работа не нормированная. На сегодня больше делать нечего — только идти обратно, в общежитие компании и завалиться спать.
— A-а… Вот ты раньше жил на этом кладбище… Тебе по ночам-то не страшно там было?
Мицуо, всё ещё красный как рак, отрицательно помотал головой и тихо произнёс:
— Ну, страшно — не страшно… Об этом потом как-нибудь поговорим при случае. А сегодня не будем. В общем, я пошёл. До свиданья.
И он поспешно зашагал прочь. Я тоже пошла к своему дому. Меня немного мучила совесть: может быть, надо было с большей серьёзностью и пониманием отнестись к его рассказам о кладбище, но скоро угрызения прошли и я успокоилась. Ведь я его не рассердила. По правде сказать, мне захотелось ещё его послушать. В действительности с того момента, когда я впервые встретилась с Мицуо, я не в силах была забыть его рассказы. Мне даже во сне то и дело являлись видения отца и сына, живущих на кладбище. Отец мне представлялся то весь покрытый волосами, как снежный человек, то как дух воина Тайра из сказки «Безухий Хоити». А рядом с ним всегда шёл почему-то совершенно голый чёрный маленький мальчик. Этот малыш иногда плакал, иногда смеялся. Я играла у себя в доме, а тот малыш всё шёл и шёл потихоньку, не глядя на меня. То он проходил у меня перед глазами, когда я садилась в трамвай, то когда сидела в классе. Стоило мне спохватиться и оглянуться на него, как видение пропадало. Мне становилось грустно. Слёзы текли по щекам.
— Эй, Юки! Иди сюда! — послышался голос Мицуо.
Небо с утра потемнело, стало холодно, будто на дворе был не май, а снова март. Мицуо стоял напротив школьных ворот у маленькой частной клиники, закинув за плечо сумку. Когда я вышла из ворот, он окликнул меня и помахал рукой — будто бы мы с ним заранее назначили здесь свидание. Забыв даже удивиться, я выбежала из толпы моих соучениц и, широко улыбаясь, бросилась к Мицуо.
— Ты меня так тут и ждал?
Мицуо ничего не ответил, повернулся спиной к толпе школьниц и пошёл по боковой дорожке мимо клиники. Я пошла за ним следом. Уже не помню, о чём я тогда думала. Наверное, я испытывала лишь чувство освобождения. Будь это Мицуо или кто другой, я была счастлива и питала к нему огромную благодарность за то, что он спас меня, — выбрал меня одну из этой толпы девочек в матросках. Тем более что он был на вид уже взрослый молодой человек — ученик старших классов или даже студент. Вся толпа девочек в матросках с завистью смотрела, как одну из них встречает взрослый парень. И самой мне было ох как приятно, что меня встречают! Я пошла за ним, чувствуя, как товарки провожают меня взглядами.
Каждый день к концу занятий в моей новой средней школе[1] я ужасно уставала. Я дремала в трамвае, пока ехала обратно, кое-как добиралась до дома, почти не чувствуя вкуса пищи, как во сне, съедала приготовленный мамой ужин, потом в полудрёме делала уроки на завтра и почти уже засыпала в ванной поздно вечером. Дни тянулись бесконечной вереницей, словно погруженные в дрёму. В моём полусонном сознании день ото дня звучали вперемешку то английские слова, которые мы начали учить, — вроде «house», «girl», «boy», «flower», «white», — то слова молитв и псалмов, которые я слышала по утрам: «Спаси нас, Господи, от всяческой скверны и отпусти нам грехи наши!» или «Звучит глас посланца небесного — возрадуемся и возликуем!» К этому ещё добавлялось невнятное, как птичий щебет, звучание латыни в хоралах, которые исполнялись всеми ученицами нашей школы во время мессы:
«Куиторипэкката мунди мизерере нобису…», «тантум эрго сакраментум…»
А иногда перед моим мысленным взором тихонько проходили, не глядя в мою сторону, отец и сын с того кладбища.
Но с того момента, когда Мицуо в тот день поманил меня, рутинное течение дней вдруг приостановилось.
Некоторое время мы шагали по улице городского квартала, потом выбрались в какой-то проулок и дальше шли по дорожке вдоль рва, окружающего императорский дворец. В скверике на детской площадке Мицуо — хоть он и был ещё несовершеннолетний — закурил сигарету, а я уселась на качели. Давно уже я не каталась на качелях — было очень здорово! Потом мы оба полезли на «железные джунгли». Тут Мицуо передвигался очень ловко — чуть ли не легче, чем по земле, а когда добрался до самой верхушки, крикнул оттуда:
— Эге-гей, Акела!
Я тогда ещё не знала, что это за «Акела». Да я и не слушала, что там кричит Мицуо, — думала только о том, как трудно карабкаться, перехватывая руками одну железную перекладину за другой, когда ноги болтаются внизу.
Потом мы побрели вдоль дороги, пересекли какую-то улицу с трамвайными путями и вышли к синтоистскому храму у холма Кудан. После вступительных экзаменов в среднюю школу мы сюда приходили с мамой.
— Ненавижу это место! Страшное место! — шептала тогда мама, изменившись в лице, но при этом всё смотрела с каким-то удивлением и испугом на постройки храма.[2]
Мы с Мицуо не пошли в главный корпус храма, куда приходят паломники, а отправились на задний двор. Там, миновав сливовый сад, мы обнаружили старые неуклюжие пушки времён не то русско-японской, не то ещё какой-то давней войны, потрогали их и вернулись к главному корпусу. Там перед воротами собралось множество солдат-инвалидов. Одни, с железными протезами вместо руки, пытались играть на гармошках; другие, без обеих ног, просто сидели, низко опустив головы, выклянчивая у прохожих подаяние. Рядом какие-то парни в студенческих формах с повязками на лбу в виде имперского «знамени восходящего солнца» что-то выкрикивали в громкоговоритель. Взлетали стаи голубей, обдавая ветром прохожих. Но к вечеру, когда ворота храма закрылись, толпа стала быстро редеть, и вскоре на гравиевой дорожке уже было тихо и пустынно. Мы решили посидеть в чайной, отдохнуть немного. Солнце зашло — и сразу стало прохладно. Ноги ныли от усталости.