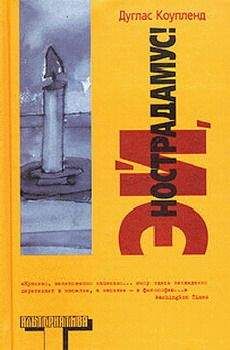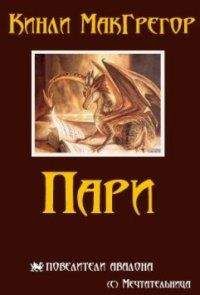Ознакомительная версия.
Я хочу, чтобы вы это поняли с самого начала.
Только час назад я, маленький добропорядочный гражданин огромной страны, занял очередь в филиале банка «Торонто Доминион», что в нашем северном Ванкувере, собираясь перевести на свой счет деньги с чека моего толстопузого босса Леса, а потом прогулять остаток рабочего дня. Но, запустив руку в карман, я вместо чека вытащил приглашение на поминки по брату, и меня словно окатило ледяной водой. Я сложил приглашение, сунул его обратно и начал заполнять банковский бланк. Взглянул на настенный календарь — 19 августа 1999 года — и, была не была, исписал все свободное место на бланке нулями, так что получилось «19 августа 0000001999 года». Даже двоечнику по математике, вроде меня, было бы ясно — такая запись означает то же самое, что и просто 1999 год.
Когда я дал чек с бланком кассиру по имени Дин, он вытаращил глаза и посмотрел на меня с таким ужасом, будто я собрался его ограбить.
— Сэр, — сказал он, — вы неправильно написали дату.
— Отчего ж неправильно? — спросил я.
— Там лишние нули.
Темно-синяя рубашка Дина резала мне глаза.
— Объяснитесь, пожалуйста, — попросил я.
— Сэр, сейчас тысяча девятьсот девяносто девятый год, а не ноль-ноль-ноль-ноль-ноль-ноль тысяча девятьсот девяносто девятый.
— Это одно и то же.
— Не совсем, сэр.
— Позовите, пожалуйста, управляющего.
Пришла Кейси, женщина примерно моих лет. (У нее каменное лицо человека, привыкшего приносить дурные вести и готового продолжать свою работу до гробовой доски.) Она вполголоса перекинулась несколькими словами с Дином, после чего обратилась ко мне:
— Мистер Клосен, могу я узнать, почему вы написали такую странную дату?
Я стоял на своем:
— Нули перед числом не меняют его значения.
— Математически это верно.
— Послушайте, я всегда ненавидел математику, и вы, наверное, тоже…
— Мне очень нравилась математика, мистер Клосен.
Кейси была на взводе, но и я не собирался отступать. Я пришел в банк без малейшей мысли об этих нулях. Они возникли сами собой. Только раз уж возникли, приходится их защищать.
— Бог с ней, с математикой, — сказал я. — Может, эти нули действительно нечто означают. Может, они говорят, что через миллиард лет — а ведь когда-то пройдет миллиард лет — от нас останется всего лишь прах. Даже не прах — молекулы!
Тишина.
— Представьте, сколько миллиардов лет впереди, — воодушевленно продолжал я. — Миллиарды лет, которых нам никогда не увидеть.
— Мистер Клосен, — наконец произнесла Кейси, — если это какая-то шутка, то я готова понять ее мрачный юмор. Однако этот бланк не удовлетворяет требованиям к официальной банковской документации.
Тишина.
— Неужели он не наталкивает вас на размышления? — настаивал я. — Не заставляет думать?
— О чем еще думать?
— О том, что произойдет с нами после смерти.
Зря я это сказал. Дин с Кейси переглянулись, и сразу стало ясно, что они все про меня знали. Про меня, про Шерил, про 19 год и про мою дурную славу полупомешанного. Бедняга, он так и не справился с этим потрясением… Сколько можно считать меня ненормальным?! Спокойным голосом, хотя внутри все бурлило от злости, я сказал:
— Я хотел бы снять все деньги и закрыть счет.
Они отреагировали так, будто я попросил разменять двадцатку.
— Разумеется, — холодно ответила Кейси. — Дин, закройте, пожалуйста, счет мистера Клосена.
— И все? — удивился я. — Просто «Дин, закройте, пожалуйста, счет мистера Клосена»? Ни вопросов, ни уговоров?
Кейси посмотрела на меня:
— Мистер Клосен, у меня две дочери, и мне хватает мыслей о том, как протянуть следующий месяц. А тут приходите вы и спрашиваете, что случится в миллиард одна тысяча девятьсот девяносто девятом году. Думаю, вам следует найти более подходящих собеседников. Поймите правильно, мистер Клосен, я не пытаюсь от вас избавиться. Просто у меня тоже есть проблемы.
Глядя на ее левую руку без обручального кольца, я спросил:
— Можно пригласить вас на обед?
— Что?
— Тогда на ужин.
— Нет! — Быстрый взгляд на длинную очередь, увлеченно следящую за нашим разговором. — Дин, пожалуйста, приступайте. Мистер Клосен, мне пора идти.
Гнев утих, осталось только желание уйти. Чтобы отлучить меня от банка, Дину хватило пяти минут, и теперь я стоял на тротуаре, курил самокрутку, а по карманам штанов, поверх которых свисали незаправленные края рубашки, было распихано пять тысяч двести десять долларов. Я решил покинуть тихий, законопослушный северный Ванкувер и направиться к океану, в западный Ванкувер. На пересечении Семнадцатой и Беллевю я зашел открыть счет в отделении Канадского имперского торгового банка и, увидев позади кассиров сейф, поинтересовался — можно ли снять в нем камеру. Ее оформили мгновенно. Сюда я положу свои записи, когда совсем их закончу. И вот еще что я сделаю: адресую-ка эти записи вам, племяшки. Так что, если меня даже переедет автобус, вы все равно получите их 30 мая 2019 года, на свой двадцать первый день рождения. А если я доживу до этого дня, то передам все самостоятельно. Но пока пусть мои воспоминания полежат здесь. Так вернее.
К слову сказать, эти первые страницы я пишу в кабине своего грузовичка, припаркованного на Белевю, недалеко от Эмблсайдского пляжа и пристани, где носятся на роликах шальные дети, а вьетнамцы ловят крабов, напичканных кишечной палочкой. Пишу на обратной стороне розовых квитанций, которые вручил мне Лес. Воздух теплеет — ах, как приятно ветер щекочет лицо, — и я чувствую себя (прямо как в рекламе нового внедорожника) совершенно свободным. С чего бы начать?
Пожалуй, с того, что я был женат на Шерил Энвей. Об этом никто не знает, кроме меня — и теперь вот вас. Сущее безумие, ей-богу. В те годы я был семнадцатилетним, изголодавшимся по сексу юнцом, смущенным навязанными мне религиозными идеями о том, что плотская любовь возможна только между мужем и женой, только для воспроизведения потомства, и даже тогда — только в пижаме (видимо, чтобы совсем лишить себя удовольствия). Когда я предложил Шерил сбежать в Лас-Вегас и там обвенчаться, то и представить себе не мог, что она согласится. Мой план возник после фильма про азартные игры, который нам показывали на математике, — предполагается, что так можно заинтересовать школьников статистикой. (О чем учителя только думают?!)
Да, а мы-то о чем думали? Свадьба?! В Лас-Вегасе?!!
И вот мы слетали туда на выходных. Такие желторотые, такие наивные, будто и не люди вовсе. Будто цыплята. Или даже нет, эмбрионы.
Как крохотные эмбриончики мы ехали от аэропорта к «Сизерс-пэлас», и я все поражался сухому и жаркому воздуху. Как давно это было: кажется, миллиард лет прошло…
Вечером по фальшивым документам мы обвенчались. В свидетели нам достался неряха шофер, который возил нас по «Стрипу». В течение следующих полутора месяцев школа перестала для меня существовать, спорт стал досадным недоразумением, друзья позабылись. Только Шерил имела значение, и поскольку мы держали нашу свадьбу в секрете, постоянно оставалось острое, дразнящее чувство чего-то запретного — куда приятнее, чем если бы мы повременили со свадьбой и поступили бы как разумные люди.
После Вегаса начались проблемы. Чокнутые моралисты из «Живой молодежи», религиозной организации, в которой числились мы с Шерил, неделями следили за нами — не исключено, что с подачи моего братца Кента. Когда я перешел в последний класс, Кент учился на втором курсе в Университете Альберты, но продолжал руководить организацией.
Мне так и слышатся его телефонные вопросы здешним «молодежникам»:
«Горел ли у них свет?»
«Когда он погас?»
«В каких комнатах?»
«А пиццу они заказывали?»
«В котором часу они вышли из дома?»
«Вместе или порознь?»
Как будто мы их не видели! Впрочем, они были такими же цыплятами, что и мы. Семнадцать лет — это ерунда. В семнадцать ты все еще в утробе матери.
Что скажет женщина о тридцатилетнем мужчине, который в три тридцать семь рабочего дня сидит в кабине пикапа лицом к Тихому океану и увлеченно пишет что-то на обратной стороне розовых квитанций? Такой мужчина — загадка. Может, у него есть работа, а может, и нет. Рядом с ним сидит собака: это хороший знак; значит, он способен на дружбу. Дальше пол собаки: если кобель, это хуже — такой мужчина, наверное, сам как пес в стае; если сучка, то лучше. Правда, если мужчине за тридцать, плоха любая собака — значит, он больше не доверяет людям. И вообще, над собаковладельцем моего возраста придется изрядно потрудиться…
Потом щетина: это признак возможного пьянства. Но если мужчина сидит за рулем пикапа, он не совсем еще спился, так что смотри, дорогая, то ли еще будет. И что может писать мужчина, сидя лицом к океану в три тридцать семь пополудни? Может, стихи, а может — письмо, где он просит прощения. Только если он пишет живые слова, а не бизнес-план или другую рабочую гадость, в нем должны шевелиться чувства. А раз так, не исключено, что у него даже есть душа.
Ознакомительная версия.