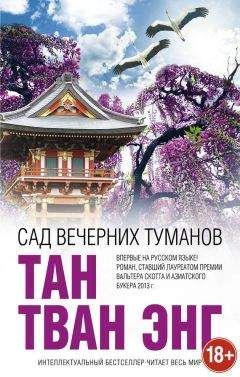– Полагаю, сегодня вечером мне лучше побыть одному.
И протянул мне свой походный посох. Мы посмотрели друг на друга, и в конце концов я взяла его у него.
– Оставлю его у тебя в кабинете, – сказала я.
Он кивнул и прошел мимо меня, лишь слегка коснувшись моей руки. Я смотрела, как он взбирается по склону. Отражавшийся от папоротников свет придавал воздуху зеленый оттенок. В конце подъема Аритомо обернулся, чтобы взглянуть на свой сад. Наверное, он улыбался мне, но лучи солнечного света у него за спиной мешали разглядеть наверняка.
Я подняла руку. Махала ли я ему?
Звала ли его вернуться?..
«Больше всего шансов отыскать Аритомо – в первые двадцать четыре часа после исчезновения», – сказал на следующее утро субинспектор Ли, когда я приехала в участок в Танах-Рате. Он расспросил меня про состояние рассудка Аритомо, спросил, во что тот был одет. Попросил его фотографию – и только тогда я сообразила, что у меня нет ни одной.
Югири полиция использовала как базу для своих операций. Одну стену кабинета Аритомо сплошь утыкали картами местности, которые предоставили военные. А Чону вздохнуть было некогда: он без передышки готовил еду для людей, которые, топая, заходили в дом и, так же топая, выходили из него в любое время дня.
– Я нашла это у него на столе, – сказала я, отдавая Ли пузырек. – Его таблетки. Чтобы держать в норме кровяное давление.
Меня удивило, как много людей входило в поисковые группы. Я поделилась этим наблюдением с Ли, и он объяснил:
– Это все люди, которых он спас от пыток в Кэмпэйтай или от отправки на строительство железной дороги в Бирму.
Надежды наши слабели с каждым днем: время шло, а поисковые группы не обнаруживали никаких признаков Аритомо.
– Дожди мешают: наши собаки никак не могут взять след, – говорил субинспектор Ли, – да и следопыты-ибаны пытались отыскать хоть какие-то приметы местонахождения Аритомо безуспешно.
Местные газеты поначалу не обратили внимания на исчезновение Аритомо: для них, в конце концов, он был всего-навсего очередным путешественником, потерявшимся в джунглях. Однако после того, как некий японский журналист, писавший о коммунистах, засевших в горах, передал сообщение о происшествии в свою газету в Токио, репортеры стали стаями слетаться в Танах-Рату. Они наделали много шуму из того факта, что я была последней, кто видел Аритомо. Вспомнили о моем прошлом, как узницы японцев, докопались до моих отношений с Аритомо. Мой отец приказал мне немедленно уехать с Камеронского нагорья, прежде чем имя нашей семьи окажется опорочено безвозвратно, но я пропустила его приказ мимо ушей.
Через неделю после начала поисков появился Секигава. Я была на веранде, листала свой дневник, когда А Чон препроводил его ко мне. Я припомнила, что мы встречались на этом же самом месте больше года назад – прямо перед тем, как Аритомо приступил к моему хоримоно.
– Вы должны уведомить меня, если я могу чем-то быть полезным, – сказал он. – Я пробуду в гостинице «Коптильня» столько, сколько потребуется.
– Что вызвало у вас желание повидаться с Аритомо?
– Я бы предпочел поговорить с ним лично, – ответил он. – Уверен, что его скоро найдут.
– Конечно же, найдут.
Взгляд Секигавы прошелся по саду перед верандой, затем вновь вернулся в дом.
– Он не оставил записки, письма? Для меня? Или кого-то еще?
– Он не знал, что ему предстоит потеряться в джунглях, мистер Секигава, – ответила я. – Но это ничего: как вы и сказали, его скоро найдут.
Гость пробыл недолго. После его ухода я снова раскрыла свой дневник на той странице, куда сунула когда-то тонкий голубой конверт. Подошел Кернильс и потерся о меня. Я приподняла конверт и смотрела на него – на это письмо, написанное японским военным преступником своему сыну. Положила его на стол, наказав себе в уме отправить его завтра утром с А Чоном на почту.
Мой чай остыл. Я выплеснула его за веранду и налила в чашку свежего. Все еще сидя в позе сейдза, повернулась всем телом к саду и деревьям, к горам и облакам.
Подняла чашку, опустила голову и отпила первый глоток.
Уже далеко за полдень, когда я переступаю порог кабинета. Целый день я раздумывала и поняла: дольше откладывать нельзя. Фредерик скоро будет тут. Но все равно – я сомневаюсь. Взгляд скользит по книжным полкам, упирается в оловянную чайницу. Я беру ее, открывая на поверхности полки темный кружок следа. Стираю с чайницы пыль и слегка встряхиваю ее. Внутри что-то шелестит. Крышка открывается с трудом, поддавшись с мягким хлопком, когда я наконец-то ее снимаю. Заглядываю вовнутрь и вижу немного чая для заварки: едва хватит на ложечку-другую. Подношу чайницу к носу – все еще улавливается легчайший запах, словно бы лесной пожар залило дождем: скорее память о запахе, чем сам запах.
– Юн Линь? – В двери стоит Фредерик. – Там у ворот никого нет, я сам прошел.
Я ставлю чайницу на стол.
– Я велела А Чону уйти домой пораньше. Входи.
Сев на колени у комода из сандалового дерева в углу комнаты, я шарю в нем, пока не натыкаюсь на предмет, который ищу. Несу его к столу и, действуя ножом для вскрытия писем как рычагом, открываю крышку. Помню, как когда-то Аритомо проделал то же самое. Я – эхо звука, исторгнутого целую жизнь тому назад.
– Надень их.
Я протягиваю Фредерику пару белых перчаток, пожелтевших от старости. Они чересчур малы для его толстых пальцев, но он все равно натягивает их. Вынимаю книгу «Суикоден» из футляра и кладу ее на стол.
– Тацуджи говорил о книге, которая преобразовала искусство татуировок, помнишь? «Легенда речных заводей». Роман, написанный в четырнадцатом веке, пересказывает сказание о Сун Цзяне[244] и ста семи его единомышленниках, которые восстали против продажного китайского правительства в двенадцатом веке, – напоминаю я Фредерику. – Сказание о шайке разбойников, сражающихся против угнетения и тирании, нашло отклик в душе японского народа, жившего под пятой клана Токугава. Популярность книги с середины восемнадцатого века только возрастала, она выходила в бесчисленных переизданиях. – Самое известное из них содержало иллюстрации, выполненные Хокусаем.
Я приподняла книгу:
– Вот в этой – подлинные гравюры Хокусая.
– И ты все это время держала ее здесь? Она, должно быть, целое состояние стоит.
Медленно переворачивая страницы, он задерживает взгляд на иллюстрациях, порой возвращаясь к тем, которые уже видел. Линии, вырезанные Хокусаем на дереве, а потом оттиснутые на бумаге, так же замысловаты, как отпечаток большого пальца какой-нибудь старухи.
– Поразительно, верно? То, что роман смог вознести татуировки от обыденности до высот искусства, – говорит Фредерик, добравшись до последней страницы.
– Эта книга совершила революцию в живописи на человеческой коже. До ее появления образцы были грубы и примитивны.
Ирония усугубляется тем, поясняю я, что самое неистовое гонение против наколок исходило от китайцев, которые еще с первого века видели в них обычай, свойственный лишь варварским племенам. Отношение китайцев перенеслось и в Японию, потому что начиная с пятого века татуировки служили наказанием для уголовных преступников. Убийц и насильников, мятежников и воров – всех их навечно метили горизонтальными полосками и небольшими кружочками, выколотыми на руках и лицах. То была форма наказания, делавшая преступников легко узнаваемыми и надежно отсекавшая их от семей и остального общества. Наколки были обязательными еще и для «неприкасаемых» японского общества: кожевников, носильщиков нечистот и тех, кто имел дело с телами мертвых.
Для того чтобы замаскировать эти отметины, более находчивые нарушители закона делали поверх них наколки – замысловатые, с обилием деталей. К концу семнадцатого века татуировки стали украшением для парочек – будь то проститутка с ее покровителем или монах со своим катамитом[245], – свидетельством их любви друг к другу. Это были не рисунки, а китайские иероглифы, составлявшие имена любящих или обеты Будде. И только столетие спустя вошли в моду живописные наколки, хотя нанесение татуировок было делом опасным, особенно во времена правления клана Токугава, когда жестоко каралось любое проявление индивидуальности. В то время запреты накладывались на все: театры и фейерверки, книги и образы «изменчивого мира».
– В такой обстановке никого и не потянет что-то выдумывать и пробовать, – замечает Фредерик.
– Нанесение татуировок было загнано в подполье и постепенно зачахло, но грянул период возрождения – благодаря «Суикоден». Клиенты упрашивали мастеров наколок наносить на их тела рисунки Хокусая. Некоторые художники-татуировщики создали свои собственные рисунки, основанные на работах Хокусая. Пожарные были одними из первых, кто стал наносить татуировки, покрывавшие все тело, – в знак своей приверженности цеховому братству. Их примеру вскоре последовали другие профессиональные сообщества. Делали наколки писатели и художники, актеры театра Кабуки и члены якудзы. Даже у аристократов были татуировки. Правительство Токугавы взирало на такой ход событий с ужасом, и нанесение наколок вновь было поставлено вне закона.