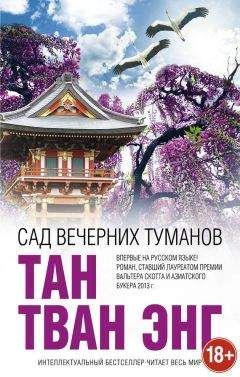– Нанесение татуировок было загнано в подполье и постепенно зачахло, но грянул период возрождения – благодаря «Суикоден». Клиенты упрашивали мастеров наколок наносить на их тела рисунки Хокусая. Некоторые художники-татуировщики создали свои собственные рисунки, основанные на работах Хокусая. Пожарные были одними из первых, кто стал наносить татуировки, покрывавшие все тело, – в знак своей приверженности цеховому братству. Их примеру вскоре последовали другие профессиональные сообщества. Делали наколки писатели и художники, актеры театра Кабуки и члены якудзы. Даже у аристократов были татуировки. Правительство Токугавы взирало на такой ход событий с ужасом, и нанесение наколок вновь было поставлено вне закона.
– И зря – только интерес разожгли, – снова вставляет Фредерик.
– Запреты на татуировки не касались иностранцев, явившихся с Запада, – продолжаю я. – Георгу Пятому татуировку выколол знаменитый японский мастер: дракона на предплечье.
– Король Георг с джапской наколкой! – крутит головой Фредерик. – Магнусу это жутко понравилось бы.
– Магнус – не единственный человек, кому Аритомо сделал татуировку, – тихо произношу я. – Он и других татуировал…
Я смотрю ему прямо в глаза.
– Тебя? – недоверчиво улыбается он.
– Мне нужно, чтобы Тацуджи осмотрел мою татуировку. Затем я его сюда и пригласила.
– Стало быть, все с самого начала не имело никакого отношения к этим самым ксилографиям.
– Имело.
Я закрываю книгу и укладываю ее обратно в футляр.
– Но я должна устроить так, чтобы наколка была сохранена, еще до того…
У меня непроизвольно дергается горло.
– Вся эта затея отвратительна! Ты не какое-нибудь животное, чтобы с тебя кожу сдирали после смерти.
– Татуировка, созданная садовником императора, – редкое произведение искусства. Его необходимо сохранить.
– Но ты же ненавидела этих чертовых джапов!
– Это совсем другое дело.
– Ладно… сфотографируй ее, если хочешь сохранить.
– Это все равно что сфотографировать картину Рембрандта, а потом уничтожить оригинал. Тацуджи будет спокойнее, если кто-то еще будет вместе с нами, когда я буду ему ее показывать.
Я делаю глубокий вдох.
– Мне бы хотелось, чтобы ты присутствовал.
Фредерик молчит.
– Насколько велико это… эта татуировка?
– Я хочу, чтоб ты взглянул на нее.
Фредерик видел меня голой десятки лет назад, и сейчас меня дрожь пробивает при мысли выставить напоказ свое стареющее тело.
Он ошеломлен.
– Что, здесь? Сейчас?
– Когда прибудет Тацуджи, – я бросаю взгляд на часы. – Он скоро должен быть тут.
– Я не хочу видеть то, что он сделал с тобой, – говорит он, отступая на шаг.
– Я больше никого не могу попросить, Фредерик. Никого.
Комната, которую я предоставила Тацуджи для работы, была той самой, где Аритомо делал мне наколку – за ночью ночь. На мгновение показалось, будто я улавливаю едва различимый запах туши и крови, впитавшийся в стены с благовонием сандалового дерева, которое Аритомо зажигал всякий раз, принимаясь за работу.
– Зашторь окна.
Слова звучат знакомо, и я вспоминаю, что когда-то уже произносила их… в этой самой комнате. Или они были лишь эхом, возвращающимся по кругу через каньон времени?
Фредерик долго глядит на меня, не двигаясь. Потом подходит к окну и закрывает ставни, запирает их на задвижку.
Тацуджи зажигает настольную лампу.
Глядя на себя в зеркало, которое установила тут утром, я снимаю с себя жакет и аккуратно вешаю на спинку стула. Вожусь с жемчужными пуговками на шелковой блузке, и Фредерик подается вперед, чтобы помочь мне, но я отрицательно повожу головой. Снимаю бюстгальтер, прикрываю блузкой грудь и поворачиваюсь спиной к зеркалу, глядя в него через правое плечо.
Сияние исходит от моей кожи, оно, кажется, разгоняет тени и распахивает пространство, выходящее далеко за эти стены. Сколько уже времени миновало, а и сейчас, глядя на татуировку, я чувствую приступ неловкости – неловкости, смешанной с гордостью. Мне знакома каждая линия, каждый изгиб его рисунка, но я помню времена, когда всякий раз что-то новое бросалось в глаза – то, что Аритомо искусно вплетал в узоры.
Фредерик застыл с выражением на лице, в котором смешались и волнение, и восхищение, и – да, даже оттенок страха, который я сама ощущала всего секунду назад.
– Они… они выглядят нелепыми, – хрипло выговаривает он. – Жуткими.
У меня на спине стоит серая цапля. Храм появляется из облаков. Изящные рисунки цветов и трав, увидеть которые можно только в экваториальных лесах, тянутся вверх от моего бедра. Сокровенные, неизъяснимые символы вписаны в наколки – символы, смысл которых мне так и не удалось раскрыть: треугольники, круги, шестиугольники. Их штрихи примитивны, как самая ранняя китайская письменность, нанесенная огнем на черепашьи панцири.
Тацуджи вытягивается, не сводя с меня глаз, словно дерево, ожидающее, когда ветер расшевелит его листья.
– Тацуджи, вы хотите, чтобы я простудилась?
Очнувшись, он принимается извиняться. Направив колпак лампы на меня, склоняется над моею спиной, держа увеличительное стекло поближе к коже. В голове у меня мелькает мысль: а ну как свет пройдет через линзу и прожжет мне спину? Я говорю себе, что веду себя как идиотка, и кручу шеей, чтобы разглядеть, чем этот ученый занимается. Тень его скрывает участки хоримоно, наколки вновь появляются, когда он двигается: словно коралловые рифы вновь обретают свои цвета, стоит только солнцу очиститься от облаков. Холодная металлическая оправа лупы касается меня, и я вздрагиваю.
– Извините, – бормочет ученый. – Поднимите руки, пожалуйста.
Я подчиняюсь, глядя перед собой. Частички пыли, плавающие в воздухе между пластами света и тени, походят на движущийся в море криль, и я думаю о китах, которых видела, когда была девочкой, на пляже за дуриановым садом Старого Мистера Онга.
– Замечательно, – говорит Тацуджи, и голос его врывается в мои грезы. – Стиль японский, а вот рисунки – нет. Это хоримоно могло бы рассматриваться как произведение почти под стать его укиё-э. Рисунки вы выбирали?
– Мы сошлись на использовании в качестве источника «Сакутей-ки». Но в конечном счете я все предоставила решать ему.
– Я узнаю дом в Маджубе, – говорит историк, и Фредерик согласно бормочет. – Но что это, вот здесь?
Тацуджи касается места у меня в прогибе спины. Мне незачем изгибаться, чтобы увидеть, на что он указывает.
– Это лагерь, куда я была заточена.
– А это?
Пальцы Тацуджи сдвигаются на дюйм[246] влево.
– Что это за белые полоски?
– Метеоритный дождь, – объясняю я то ли себе, то ли ему.
Пальцы его давят на точку в дюйме от моего бедра. Там, на фоне совершенно белого квадрата неба, изображен лучник в момент, когда он послал стрелу в солнце.
– Легенда о Хоу И, – говорю, глядя на Фредерика. – Это китайский миф.
– Я знаю о нем. В той сказке Хоу И оставил светить одно солнце, – говорит в ответ Тацуджи. – А здесь, похоже, лучник сбил последнее солнце с небес. И одет он не в китайские одежды, а в японские. Взгляните на хакама.
– И солнце… оно похоже на ваш флаг, Тацуджи, – замечает Фредерик.
Пальцы Тацуджи опять скользят по моей коже, касаясь монастыря. Память о том утреннем восхождении на гору возвращается ко мне. Я радуюсь: монахиня сказала мне, что монастырь все еще стоит, все еще возносит благовоние ладана в облака…
– Он не закончил татуировку, – говорит Фредерик. – Здесь – пустой прямоугольник.
– У хоримоно должно быть внутри пустое место, – поясняет Тацуджи.
Он опускает на стол увеличительное стекло.
Фредерик снимает со стула мою одежду и протягивает ее мне. Оба мужчин отходят в дальний конец комнаты.
Вижу в зеркале, что за рисунок выгравировал возраст на моем лице – морщины, которые так и не появились на коже спины. Обернувшись, разглядываю через плечо отражение наколок. Сумрак вобрал в себя последний свет из кабинета, однако линии и цвета на моей коже по-прежнему излучают свечение. Одна из фигур на хоримоно кажется двигающейся.
Но это лишь обман зрения.
На следующий день Тацуджи приезжает в Югири переговорить со мной.
Мы сидим на энгава. Он привез договор на использование им укиё-э. Я проглядываю его: все верно, все так, как мы договорились, нет ничего, что вызвало бы возражения. Тем не менее я прошу его дать мне день-два на изучение договора.
– Я провел утро в саду, – говорит он.
– Я вас видела.