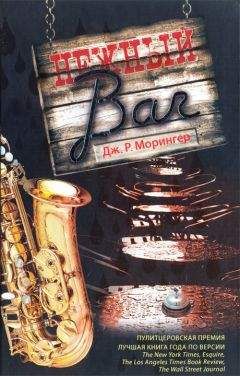— Давай напьемся!
— Без вопросов.
Мы заказали мартини. Его подали в стаканах, которые были большими, как перевернутые клоунские колпаки. Бебе рассказала мне последние сплетни про однокурсников. Я спросил про Джедда Редукса. Она недавно видела его на вечеринке, и он выглядел великолепно. Рассказывая, она одним глазом следила за барменом. Как только наши стаканы пустели наполовину, она делала ему знак принести еще по одной.
— Ого, — сказал я. — Я сегодня не ужинал. Скоро упаду под стол.
Бебе попросила бармена не обращать на меня внимания и продолжать приносить мартини.
Когда я допил свой третий мартини, она качнулась вперед и спросила:
— Ты пьян?
— О господи, да.
— Хорошо. — Бебе качнулась назад. — Сидни выходит замуж.
В человеческом теле двести шесть костей, и внезапно я ощутил каждую из них. Я посмотрел на пол, потом на ноги Бебе, потом на бармена, который стоял, сложив руки на груди, сузив глаза и изучая меня внимательно, будто Сидни заранее предупредила его, что произойдет.
— Лапушка, я не знала, стоит ли говорить тебе, — произнесла Бебе сквозь слезы.
— Нет, ты правильно поступила. Расскажи мне все, что знаешь.
Она знала все. Она выведала это у подруги лучшей подруги Сидни. Сидни выходила замуж за парня из трастового фонда.
— Они уже назначили дату?
— В выходные на День памяти павших на войне.
— Хорошо. Этого достаточно. Больше я ничего не хочу знать.
Мне захотелось заплатить по счету и сбежать в «Пабликаны».
В пятницу перед Днем памяти я сортировал копии в отделе новостей, думая о Сидни и о том, как пережить следующие семьдесят два часа. Когда я поднял глаза, передо мной стояла секретарша редактора, отвечавшего за программу тренинга.
— Он тебя искал, — сказала она, указывая карандашом в сторону стеклянного кабинета редактора.
— Я был здесь.
— Я искала. Тебя здесь не было.
— Должно быть, я выходил съесть бутерброд.
— Жаль. Он хотел тебя видеть.
Секретарша сделала большие глаза, давая понять, что желание редактора было важным и беспрецедентным.
— Но сейчас его нет. Он уехал на выходные. Ты свободен во вторник?
— Это хорошая новость?
Ее глаза еще больше расширились, она поджала губы и повернула невидимый ключ.
— Это хорошая новость? — повторил я.
Она снова повернула ключ и кинула его через плечо. Потом улыбнулась мне теплой поздравительной улыбкой.
— Меня повысят!
— До вторника, — ответила секретарша.
Как замечательно! Как вовремя! В тот же выходной, что Сидни стала миссис Трастовый Фонд, я стал репортером «Нью-Йорк таймс». Если бы только я оказался за своим столом, когда редактор искал меня! Тогда я бы мог все выходные возвращаться мыслями к этой счастливой сцене, вместо того чтобы вновь и вновь представлять Сидни, идущую по проходу церкви к своему жениху.
Нет, сказал я себе, все будет еще лучше. Предвкушение даже слаще.
Когда я заявил, что меня повысили, в «Пабликанах» как будто снова случился шестой раунд. Мужчины бросали салфетки в воздух и кричали «ура». Они ерошили мне волосы и умоляли дядю Чарли оказать им честь заплатить за первый коктейль новоиспеченного корреспондента. Стив настаивал, что мое повышение связано со статьей про Манхассет, которую он продолжал называть «статьей про „Пабликаны“».
Я решил провести последние выходные в должности копировщика, съездив в гости к университетским друзьям из Нью-Хейвена. Когда я садился на поезд рано утром в субботу, у меня все еще кружилась голова от пирушки в «Пабликанах». Мне было грустно, когда поезд остановился в родном городе Сидни, но с этой грустью я мог справиться. У нас обоих все складывалось прекрасно. Мы шли разными дорогами и одновременно достигли разных мест назначения, каждый своего. Все логично. Что ни случается, все к лучшему. Если бы я страдал по Сидни и все последние три года сражался бы за то, чтобы отвоевать ее у парня из трастового фонда, мне бы не хватило сил стать корреспондентом «Таймс». Но все равно я думал о том, как она, с высокой прической из светлых волос, наверное, хорошо смотрелась в церкви, когда парень из трастового фонда поднял ее вуаль. Я даже представить не мог, насколько болезненнее были бы эти видения, если бы до моего собственного счастливого дня меня не отделяло всего несколько часов.
Перед тем как встретиться со старыми приятелями в Йеле, я навестил своего самого старинного и верного друга — раскидистый вяз. Я сел под деревом со стаканчиком кофе и стал думать о том, какой путь я проделал. Я походил по студенческому городку, останавливаясь у каждой скамейки, у каждого камня, где мучился отчаянием, будучи студентом. Я посетил дворы и переулки, где мы с Сидни смеялись, целовались или строили планы на будущее. Я послушал колокола на башне Харкнесс, пообедал в своем старом книжном магазине-кафе и почувствовал себя более благодарным, более живым, чем в тот день, когда я окончил университет, потому что мой сегодняшний выпуск, переход из копировщика в корреспонденты, был куда большим чудом.
Утром во вторник я предстал перед секретаршей редактора ровно в девять утра. Она сделала мне знак подождать, потом пошла в кабинет редактора. Тот говорил по телефону. Я увидел, как она показала на меня. Редактор улыбнулся и махнул мне рукой: «Проходи, проходи».
Он указал на стул напротив стола. «Международный звонок», — прошептал он, показывая на телефон. Я сел.
Главный редактор программы тренинга был бывшим военным корреспондентом. На его умудренном опытом лице отразились многолетние скитания по миру. Он наполовину облысел, но остатки русых волос по периметру головы были достаточно густыми. Его загорелая лысина казалась шикарной, ей хотелось завидовать. Костюм был сшит на заказ — в Лондоне, без сомнения, — а ботинки на шнурках шоколадно-коричневого цвета явно сделаны вручную в Италии. Кто-то говорил мне, что этот редактор много лет покупает ботинки у одного и того же сапожника. «Интересно, правда ли это?» — подумал я. Еще я слышал о его романе с известной своей распутностью кинозвездой и о его глубоком разочаровании, когда позднее он обнаружил, что грудь у нее искусственная.
Повесив трубку, редактор сложил руки на столе и спросил, как я провел праздничные выходные. Я рассказал ему, что ездил в Йель.
— Я и забыл, что вы из Йеля.
— Да, — подтвердил я.
Он снова улыбнулся. Улыбка почти как у Стива. Я тоже улыбнулся.
— Ну что ж, — начал он. — Как вы, наверное, уже догадались, редакторы тщательно изучили ваши работы — и они потрясающие. Честное слово, некоторые из материалов, которые вы написали для нас, действительно выдающиеся. Поэтому жаль, что у меня нет для вас лучшей новости. Как вы знаете, когда собирается комиссия, чтобы обсудить новичка, некоторые редакторы его поддерживают, некоторые нет. Проводится голосование. Я не имею права сказать, кто как проголосовал и почему. Но боюсь, что по результатам голосования я не могу предложить вам позицию корреспондента.
— Понимаю.
— Мы считаем, что вам нужно больше опыта. Больше зрелости. Возможно, в менее крупной газете, где вы сможете учиться и расти.
Он ничего не сказал про горящие крендели и неправильное написание фамилии Келли. Он не упомянул мою нестабильную производительность труда, не вспомнил мое письмо «Простите, что я такой идиот». Он был образцом сочувствия и такта. Он подчеркнул, что я могу оставаться в «Таймс» так долго, как пожелаю. Однако, если я решу уйти, если я хочу приобрести настоящий писательский опыт, который можно приобрести только путем ежедневного написания статей в режиме жестких сроков, «Таймс», конечно, поймет, и редакторы пожелают мне удачи и отпустят меня с блестящими рекомендательными письмами.
Как глупо и самонадеянно с моей стороны было думать, что у меня достаточно квалификации, чтобы стать корреспондентом «Таймс»! Мне необходим был опыт, даже больше опыта, чем он думал. Я поблагодарил редактора за уделенное мне время и потянулся через стол, чтобы пожать ему руку. Я обратил внимание на его длинные наманикюренные пальцы, гладкую и приятную на ощупь кожу. Это были руки концертирующего пианиста, волшебника или хирурга. Руки солидного мужчины, в отличие от моих — с заусенцами и табачными пятнами на пальцах. Мои были руками мальчишки. Его руки печатали срочные репортажи из зон военных действий и ласкали грудь кинозвезды. Мои же совершали ужасные ошибки, допускали нелепые опечатки и регулярно превращались в когти, когда на меня находило творческое оцепенение. Жаль, что мы не могли поменяться руками на денек. И волосами. Потом я стал презирать себя за такое желание. Этот человек только что сказал мне, что я не гожусь в корреспонденты, но все равно продолжал мне нравиться, и я желал поменяться с ним частями тела. Когда он говорил мне какие-то последние ободряющие слова, я не слушал. Я говорил себе: «Разозлись!» Нужно было накричать на редактора или стукнуть его. Джо Ди повалил бы этого парня прямо на стол ногами вперед. Джо Ди схватил бы этого редактора за волосы, за эту блестящую шелковую прядь — сколько же он тратит на бальзам для волос? — и повозил бы его мордой по столу. Жаль, что я не Джо Ди.