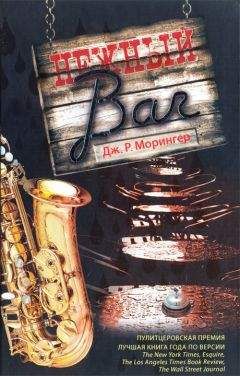Мы спросили Боба Полицейского, когда тот вернулся, была ли у него Дейзи в прошлом. Он выглядел озадаченным. Я сделал себе пометку принести в бар «Великого Гэтсби» для Боба Полицейского. Бог свидетель, подумал я, этой книгой я не пользуюсь.
В то лето я с нетерпением ждал, что буду проводить время вместе с Макграу, но не мог себе представить, что он станет моей тенью. Вместо того чтобы поднимать гантели, отдыхать и поддерживать форму для финального сезона, Макграу вечер за вечером просиживал рядом со мной у стойки в «Пабликанах». Когда я спросил, зачем он пытается побить мой рекорд посещаемости «Пабликанов» в отдельно взятом сезоне, он ухмыльнулся, а потом поморщился. Затем потер свое плечо, и на лице у него появилось такое выражение, будто он сейчас заплачет. Что-то было не так.
Макграу впервые заметил это в начале года, когда подбрасывал бейсбольный мяч. Приступ боли. Мяч уходил вбок, и он знал это. Он не обращал внимания на боль и на все последующие приступы, играл, несмотря на боль, и установил рекорд, но потом боль стала невыносимой. Он не мог поднять руку. Он не мог спать. Тетя Рут водила его к нескольким специалистам, и все поставили диагноз: разрыв вращательной мышцы. Единственной надеждой Макграу снова стать питчером была операция, которую он делать не хотел. Слишком рискованно, сказал он. После нее рука могла полностью потерять подвижность.
А потом Макграу ошарашил меня, признавшись в главной причине, по которой он не хочет идти на операцию. Он потерял любовь к игре.
— Я устал, — сказал он. — Устал от тренировок, устал от поездок, устал от боли. Устал. Я не уверен, хочу ли вообще снова прикасаться к бейсбольному мячу.
Ему оставалось еще два семестра в университете. Макграу сказал, что хотел бы посвятить их чтению, улучшить успеваемость и, может быть, поступить в юридическую школу.
В юридическую школу? Я попытался скрыть свое ошеломление. Когда я наконец снова обрел дар речи, то сказал Макграу, что буду поддерживать его, чем бы он ни решил заниматься.
— Спасибо, — сказал он. — Но проблема не в тебе.
— В твоей матери?
Он сделал глоток пива.
— Рут вышла на тропу войны.
Макграу сообщил сегодня матери то, что только что узнал я, и та пришла в ужас. Как только мы вернулись к дедушке, я понял, что Макграу не преувеличивал. Тетя Рут не спала — она поджидала нас. Зажав нас в угол в кухне, она поинтересовалась, рассказал ли мне Макграу про руку.
— Да.
— И что ты ему ответил?
— Что буду поддерживать его, чем бы он ни решил заниматься.
Неверный ответ. Рут подняла руку и стукнула кулаком по кухонному столу так, что в буфете задрожали стаканы из «Пабликанов». Она метала гневные взгляды то влево, то вправо, пытаясь найти что-то, что можно бросить. Потом она заговорила, и это была самая язвительная речь, которую я когда-либо слышал. Все крики тети Рут за последние двадцать четыре года оказались просто репетицией к этому вечеру. Она кричала, что мы с Макграу трусы, самые презренные трусы, потому что боимся не провалов, а успеха. Мы такие же, как все мужчины в нашей семье, сказала она, и даже сквозь страх я сочувствовал ей, потому что понимал, как много мужчин разочаровали ее, от отца и брата до мужа и единственного сына. Даже сжимаясь от страха, я сочувствовал ей и понимал ее, потому что она, так же как и я, желала лучшего Макграу. Она не хотела, чтобы он бросал играть только из-за боли. Она хотела, чтобы он боролся через боль, продолжал стараться. Как и моя мать, тетя Рут всю жизнь боролась, несмотря на боль. За ее спиной были годы неудачных работ, бедности и разочарования, постоянных унизительных возвращений в дедушкин дом, и иногда единственным, что ее поддерживало, была надежда на то, что у ее детей будет иная жизнь, что они станут другими. Теперь же она чувствовала, что Макграу будет таким же. Когда Макграу сказал, что хотел бы бросить бейсбол, она слышала не его голос. Она слышала хор мужских голосов, твердящих «Я сдаюсь», и от этого срывалась на крик, от чего я в конце концов сбежал с кухни, а за мной и Макграу.
Мать Макграу преградила ему дорогу. Он проскочил под ее поднятой рукой, но она прижала его к стенке. Он опустил голову, как борец, собирающийся идти на таран, но тетя Рут была не из тех, кого можно протаранить. Она изливала на него поток слов. Она называла его ничтожеством, дураком, неудачником, уродом и даже хуже. Я попытался встать между ними, уговорить ее прекратить, но после их долгого отсутствия я забыл, что гнев тети Рут как ветер. Если он дул, ничего поделать было нельзя. Только когда он прекращался, наступало затишье. И, несмотря на то, что, когда мы были мальчишками, нам некуда было спрятаться, теперь мы чувствовали себя еще уязвимее. Квартиру я потерял, «Пабликаны» уже закрылись, машины ни у одного из нас не было. Мы не могли обратиться за помощью ни к бабушке, ни к дедушке. Они, даже когда были моложе, предпочитали не связываться с тетей Рут, а теперь, состарившись, и вовсе старались держаться от нее подальше.
У нас с Макграу не осталось иного выбора, кроме как забраться в свои постели в дальней спальне и переждать шторм. Полчаса без передышки тетя Рут кричала на нас, стоя в дверном проеме, а потом резко замолчала и хлопнула дверью. Мы лежали на спине, пытаясь выровнять дыхание и успокоить сердцебиение. Я закрыл глаза. Прошло пять минут. Я слышал, что Макграу все еще тяжело дышит. И тут дверь распахнулась, и тетя Рут начала все по новой.
Утром мы нашли ее за кухонным столом, где она поджидала нас, чтобы повторить свою речь.
Каждый вечер было одно и то же. Тетя Рут ждала, когда мы вернемся из «Пабликанов», и начинала кричать, как только мы входили в дверь. Оставался лишь один выход: вообще не уходить из «Пабликанов». Мы прятались в баре до рассвета, и даже тетя Рут не могла бодрствовать так долго. Наша стратегия оказалась безупречной. Тетя Рут знала, что мы прячемся от нее, и знала где, но была бессильна. Даже в своем встревоженном эмоциональном состоянии она осознавала, что бар неприкосновенен, как швейцарское посольство. Она знала, что дядя Чарли и мужчины не позволят матери выслеживать сына в баре, хотя иногда по вечерам тетя Рут посылала младших сестер Макграу в бар поговорить с ним. В такие моменты стыд Макграу, его ощущение дежавю, его страх, что он официально превратился в своего отца, становились почти осязаемыми, и все пили немного больше.
К середине лета мы с Макграу стали строить более радикальные и долговременные планы побега из «Пабликанов». Он бросит университет в Небраске, я брошу «Таймс», и мы отправимся с рюкзаками путешествовать по Ирландии, жить в студенческих общежитиях или ночевать в роскошных зеленых полях под звездами, в зависимости от того, будут ли деньги. Мы станем подрабатывать в пабах, а потом найдем постоянную работу и больше никогда не вернемся. Мы набросали схему нашего плана на коктейльных салфетках с большой важностью, будто это была благородная затея. Мы рассказали про план мужчинам, и они решили, что идея неплохая. Джо Ди вспомнил о своей поездке на Карибы с дядей Чарли. Колдунья взглянула на дядю Чарли и заявила: «Он — плохая магия». От этих воспоминаний у Джо Ди слезы выступили на глазах, и ему пришлось вытирать их одной из коктейльных салфеток, на которой мы записали план побега.
Я позвонил маме и рассказал ей про Ирландию. Она вздохнула. Тебе не нужен отпуск, сказала она, тебе нужно снова брать быка за рога. Ищи работу в маленьких газетах, делай так, как тебе посоветовали в «Таймс», а потом через пару лет снова попытайся устроиться туда. Все это звучало как старые наставления о том, что нужно пытаться, пытаться и еще раз пытаться, которые ни к чему меня не привели и с которыми я решил распрощаться. Я объяснял маме, что устал, повторяя слова Макграу и забыв, как много значит для нее эта фраза. Ее усталость длится уже двадцать лет, сказала она. С каких пор усталость стала оправданием тому, чтобы перестать пытаться?
Теперь у нас с Макграу было нечто общее. Кроме того, что у нас обоих не состоялась карьера, мы не ладили с матерями. В то лето мы снова и снова обращались за помощью к мужчинам из «Пабликанов», и они прятали нас, как в подземелье для блудных сыновей, — не только в баре, но и на стадионе «Шиа», в Джилго, дома у Стива и особенно в Бельмонте, где мы прошли ускоренный курс королевского спорта у короля Бельмонта — Атлета.
Атлет любил скачки. Он жил ради скачек. Атлет говорил о скачках романтическим языком, который мы с Макграу жаждали выучить, и иногда я делал пометки на обороте своего листочка со ставками, стараясь запомнить слова Атлета, его интонации, голос. «Видишь тренера на той белой лошади? Он хорошо работает с двухлетками, поэтому мне нравится номер пять, я, пожалуй, поставлю двадцатку на этого парня, но седьмой номер, ребята, он просто срывается с места, и это неплохая цена за такого шустрого жеребца, поверьте моему слову. Внутренний голос говорит мне: „Ставь на седьмой номер, ставь на седьмой“, но потом на утренних тренировках я увидел четвертого, и он несся со скоростью сорок девять миль в час, пока мы все еще пытались стряхнуть с себя последствия бурной ночи в „Пабликанах“, он просто парил. С другой стороны, девятый номер, скорее всего, прорвется, потому что он всегда любил слякоть, а ты видишь, какой дождь начинается? Он уже „Будвайзер“ будет попивать на финише, поджидая, пока все эти поросята вернутся. Итак. Я думаю, я поставлю еще десять долларов на девятый номер и на четвертый или поставлю на пятый и на девятый и еще десять долларов на седьмой. Что вы думаете, парни? Пойдемте к окошку кассы, потому что, знаете, как говорится, скачки — это единственное место, где не люди чистят кассы, а кассы обчищают людей!»