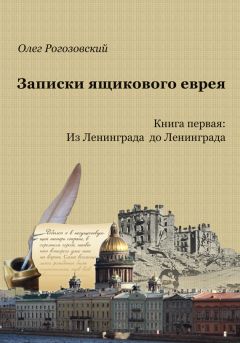— …Нашел с кем дружить, Яклич! — Морелон поджидал меня за поворотом шоссе. — Это ж тунеядец.
— Хорош тунеядец! Он всегда в работе.
— Хабарит. — Морелон исходил презрением. — Которые люди труд уважают, те на полставке.
— Уж больно ты строг!
— Я же знаю, что говорю… Он с утра о водке думает.
— Будто он один!
— Другие опохмелиться ищут. А он — чтобы снова морду налить. Две громадные разницы.
— Не такие уж громадные.
— Нет, Яклич, ты завязал и ничего не помнишь. Уж лучше помолчи. Мишка этот, — Морелон понизил голос, — в ресторан ходит.
Недавно в соседнем поселке, у шоссе, открыли столовую, которая вечером, ничего не меняя ни в ассортименте блюд, ни в ценах, объявляла себя рестораном и готова была обслуживать свадьбы, служебные банкеты и прочие праздничные застолья. Вечер отличался от дня лишь тем, что водочные бутылки переселялись из-под стола на столешницу.
— Не все ли равно, где пить? В ресторане чище.
— Спасибо, Яклич! Удружил! Не уж, меня ты в ресторане не ищи. Я тебе не Волос, а человек семейный. У меня порядочность есть.
Он посмотрел на меня почти умоляюще:
— Прошу тебя, Яклич, не ходи туда. И не слушай Волоса. Он же отчаянный. Одно слово — цыган. Там не то что деньги, себя потеряешь.
— Неужто там так опасно?
— Самое ужасное место на земле. Водку пивом запивают. Исключительно. Музыка орет, аж глохнешь… Ладно, заболтался я с тобой, а дела не делаю. Берешь картошку-то?
— Я же сказал тебе…
— Мало ли что сказал!.. День рождения у дочки, надо подарок купить.
— Какой подарок?
— Куклу.
— Твоя дочь играет в куклы?
— А как же? Шесть лет — самая игра. Через год в школу пойдет, тогда уж не до кукол будет.
Мы не следим за чужим временем, да и за своим тоже.
— У тебя шестилетняя дочь?
— Ты, Яклич, глупый или притворяешься? Я же молодой. А жене и тридцати нет. Ты жену мою видел когда?
— Н-нет.
— Красавица! Самая красивая женщина в микрорайоне. И дочку не хуже себя родила. Синеглазка, веселая!.. Я ведь тоже из себя ничего. Сейчас малость поистерся. А и то, дай мне в баню сходить, побриться, сорочечку чистую надеть — любая засмотрится… У тебя сколько с собой денег?
— Ни копейки.
— Кто же без денег со двора идет? — облил меня презрением Морелон.
— Ты, например.
— Сравнил! У меня картошка.
— А где ты собираешься куклу покупать?
— В продовольственном, где же еще? — сказал он сердито, раздраженный моей оторванностью от жизни. — У нас другого нету.
— А в каком отделе — мясном или бакалейном?
— В кондитерском, конечно. Там и куклы, и голыши, и мячики, и барабаны с палочками. Я дочке давно обещался. Да ведь знаешь, как в хозяйстве — то одно, то другое… Капитала свободного не было. А сейчас отступать некуда. Что же, она так и вырастет без куклы?
— Неужели у нее никогда кукол не было?
— Были. Тряпишные. Личики краской наведены. Дерьмо. А таких, чтобы глазками моргали и «мама» вякали, не было. Они и в магазине-то первый год.
Мы вышли к реке. С моста незнакомый мужик забрасывал самодельную удочку. Вода в этом месте была почти черной, но прозрачной до самого дна, закиданного старыми покрышками, худыми канистрами, консервными банками, какими-то железяками. Над всей этой дрянью пластались, извиваясь, длинные жирные водоросли. Рыба здесь сроду не брала, о чем и сообщил Морелон рыболову.
— Тебе выше или ниже надо идти, а здесь только время убьешь.
— А может, я и хочу его убить? — насмешливо сказал мужик, циркая слюной из щербатого рта на бледного, давно издохшего червяка.
— Вот чудило! — удивился Морелон. Прислонив велосипед к перилам моста, он достал сигареты. — Неужто тебе больше делать нечего?
— А тебе? — спросил мужик, перебрасывая удочку ближе к берегу.
— Я картошку продаю. А вообще — на полставке, — вскользь сообщил Морелон. — Моих делов, милый, сроду не переделать. На мне, если хочешь знать, цельный поселок лежит. Спроси хоть его, коли не веришь. Правду я говорю, Яклич?
Я промолчал, и Морелон принял это как подтверждение.
— Вот видишь! — сказал он рыболову и закурил. Затягиваясь, Морелон глубоко всасывал худые щеки, на висках набухали грозные синие вены, и глаза вылезали из орбит. Наполнившись дымом от макушки до пят, он задерживал его в себе, чтобы каждая клеточка пропиталась никотином, а затем мощно, в два приема выдувал синими столбами.
— Ты бы все-таки тут не ловил, — пристал он опять к мужику. — Здесь она и в сезон не клюет. Ступай к плотине. Там хоть какой-то шанец есть.
— А мне он ни к чему, — скучно сказал мужик, оплевывая червяка.
— Тебе картошки на ушицу не надо? — деловито спросил Морелон.
— Чего пристал как банный лист? — с тоской и злобой сказал мужик. — Вали отсюдова. Здесь вагон для некурящих.
— Ну и чикайся тут! — озлился Морелон. — Ему добра желают… Вот дубина!.. А мне некогда лясы точить.
Он взял велосипед за рога, пошевелил мешок, взбодрив картошку.
— Ладно. Гуляй, Яклич, раз здоровье требует. Я к академикам толкнусь. А насчет ресторана — держись крепко!.. — С этим добрым советом Морелон отбыл, а я заметил, что все это время дышал нормально.
Я еще постоял возле скучного рыболова, было что-то завораживающее в бессмысленном и вызывающем упрямстве, с каким он тщился ловить рыбу на дохлого червя в заведомо безрыбном месте. Так и не постигнув смысла его явления в пространстве — если тут действительно был смысл, — я побрел к плотине, где хорошо и грустно шумела вода. Затем сквозь золотой листопад старого березняка, опутанный нитями летучей паутины, я вышел к поселку и подумал, что могу вернуться домой…
Передышка оказалась недолгой. К вечеру я вновь мерил шагами поселковые аллеи, не в силах зачерпнуть пригоршню благодати из воздушного океана, омывающего мир.
Бродил я долго, и раз-другой в перспективе центральной аллеи мелькнула фигура одинокого пешего велосипедиста. Похоже, Морелон по второму кругу совершал свой безнадежный обход. Уже в сумерках мы столкнулись с ним.
— Все еще не продал?
Морелон развел короткими руками. Достал сигареты, закурил. Пальцы его дрожали. Он был человек, не избалованный фортуной, и всегда стойко держался против ветра, но эта неудача сломала его.
— Ладно, не переживай, — сказал я ему. — Завтра купим твоей дочери куклу.
— Берешь картошку? — просиял Морелон.
— Неужели тебе самому не надоело?..
— Как же так?.. — растерянно произнес Морелон. — У меня ничего больше нет… Даже флюгера. А я должон из своих пречистых подарок дочке сделать.
— Брось! — Я уже устал от него. — Разве это твоя картошка?
— А… чья?.. — с запинкой сказал Морелон. — Я ее сам копал. Приложил свой труд.
— Копал — не сажал. Картошка чужая, нечего вкручивать.
— Обижаешь, Яклич. Она мне вовсе не чужая. Я ее на своем огороде накопал.
— Ври больше.
— Как Бог свят! Жена каждый год картошку сажает. Хозяйственная!.. — с бледной улыбкой сказал Морелон. — Конечно, врать не буду, нарыл я утайкой. А все же картошка мне вовсе не чужая, а родненькая — по жене.
Темны извивы чужой души и вовсе не проглядны, когда тебе самому худо.
— Дело твое. Была бы честь предложена.
— Да что ж это такое?.. — сказал Морелон, мучительно морща свое маленькое безвозрастное лицо. — Значит, не отец ей куклу подарит, а чужой дядя?.. — Он топнул ногой, повернулся и, упираясь руками в руль, покатил прочь свой тяжелый велосипед с притороченным к багажнику мешком картошки.
А ведь недаром провел он столько часов с покойным Писателем. Они не разговаривали. Молчали, курили, иногда пили. Но такая тишина стоит многих речей. И Морелон умел слушать молчание Писателя. Неправда, что он ничему здесь не научился. Он научился чему-то более важному, чем всякая ручная работа. И какой он, к черту, Морелон? При чем тут долговязый, сухопарый, азартный и ничем не обремененный француз? И тут мне будто кто шепнул на ухо сроду вроде бы не слышанное имя.
— Николай Иваныч! — крикнул я. — Сушков!.. Погоди!..
Тишина. Затем тихо и сумрачно донеслось:
— Ну, чего тебе еще?..
Он появился в моем подмосковном жилье ноябрьским звонким полднем, когда внезапный мороз сковал крепким ледком лужи, схватил и ожесточил слабый, плавкий иней на хвое, пустил длинную ледяную слезу по каждой березовой и осиновой веточке, по каждому прутику вербы и краснотала и сделал хлюпкий, квелый, чавкающий мир сопливой осени сухим, стеклянно-чистым и звонким. Хотелось верить, что это уже зима: затянется простор искрящейся пеленой, поникнут отяжеленные снегом сосновые и еловые лапы, воцарится особая снежная остужная тишина и душу настигнет тот благостный покой, что дарится нам лишь с наступлением на земле царства Корочунова.