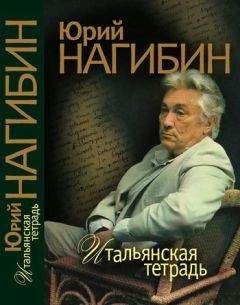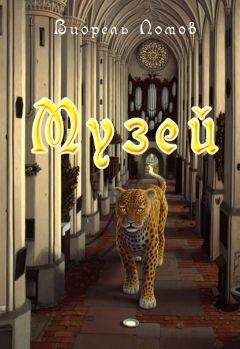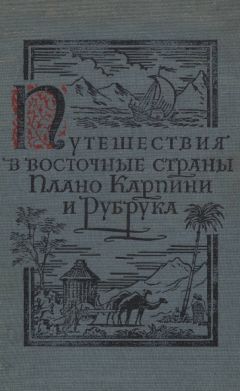Еще в молодости, влюбившись (во всяком случае, убедив себя, что он страстно, пламенно влюблен) в певицу Дезире д’Арто, Петр Ильич сделал ей предложение. Казалось, и Дезире разделяет его чувства. Но дело как-то застопорилось. Дезире уехала из России, а потом вернулась с мужем – дураком-баритоном, которого прежде в грош не ставила. В тех русских источниках, которыми я располагал, работая в свое время над киносценарием, об этом неудачном сватовстве говорится или с простодушным сочувствием, или с недомолвками, недоговорами, что появляются у наших авторов, когда затронута их стыдливость или когда нельзя говорить правду. У меня создалось впечатление, что Петр Ильич замешкался, неуверенный в своей возможности составить счастье женщины, а проницательная, испытанная в страстях оперная дива что-то смекнула и облегчила милому ей человеку и музыканту выход из затруднительного положения. Петр Ильич глубоко и долго страдал. Но язык не повернется считать эту робкую любовную историю неудачей, если она подарила миру фортепианную пьесу и романсы «Ни слова, о друг мой», «Нет, только тот, кто знал», «Не верь, мой друг», «День ли царит», «Забыть так скоро».
И еще раз Петр Ильич пытался обмануть природу: он женился на Антонине Ивановне Милюковой, нимфоманке и авантюристке, ловко прикинувшейся музыкантшей и его страстной поклонницей. На редкость удачный выбор! В первую же брачную ночь его постиг нервный припадок, он кричал, трясся, плакал, терял сознание...
Общеизвестны слова Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи...» Видимо, музыка нередко творится из того же материала. Но из сора своей поспешной и спасительной, как казалось несчастному, женитьбы Петр Ильич ничего не извлек: музыка надолго отказала, его постиг тяжелый нервный кризис. Надежда Филаретовна фон Мекк, уже ставшая его ангелом-хранителем, выкупила страдальца из супружеского плена. Впрочем, Милюкова еще не раз напоминала о себе бывшему мужу, предлагая усыновить появлявшихся у нее время от времени детей и усугубляя навек поселившуюся в нем меланхолию. Петр Ильич никогда не был жизнерадостным весельчаком, но после неудачной женитьбы грусть стала с ним неразлучна.
Этот настрой усугублялся вечным ожиданием разоблачения. В нем исток тех мучительных приступов необъяснимого житейски страха, которые постигали Петра Ильича то в купе поезда, то в гостиничном номере, то в собственном кабинете, то посреди ночи в постели. Все больше становилось черных дней у этого по природе своей светлого, легкого, готового к радости человека. Таким изредка являлся Чайковский своим близким и друзьям, и тогда никто не мог сравниться с ним в обаянии, остроумии, блеске ума. Но недолго светило солнце, вновь накатывали тучи тоски, страха, отчаяния.
«Роман невидимок», о котором немало, но крайне застенчиво сказано в нашей литературе, ибо тут тоже имеется причина для ханжеских умолчаний – материальная зависимость композитора от Надежды фон Мекк, – в свою очередь явился для Чайковского источником тяжких мук. Меньше всего смущала Петра Ильича та крупная сумма, которую ежегодно выплачивала ему Надежда Филаретовна, он умел давать и брать, не сосредоточивая на этом душевного внимания. С печалью и страхом он очень скоро обнаружил, что Надежда Филаретовна не только почитательница его музы и щедрая меценатка, но и влюбленная в него женщина. И тут началась двойная мука: он боялся с ней встретиться и равно боялся, что она догадается, почему он ее избегает.
Каждый божий день начинался для него со страха: она все знает, – а вечером он вздыхал с облегчением: пронесло, на этот раз пронесло. Надолго ли?.. Он нуждался в материальной поддержке фон Мекк и не меньше – в ее слепой вере в его талант – Надежда Филаретовна задолго до всех музыкальных знатоков увидела в бедном консерваторском профессоре и композиторе-неудачнике гения, который станет в ряд с величайшими из величайших, ему нужна была и она сама в... письмах. Чайковский не мог ответить на любовь Надежды Филаретовны так, как ею трепетно ожидалось, он не мог быть ей «милым мужем», но последнее имя, которое он произнес, умирая, было: «Надежда»...
К тому времени добрые души сумели донести до ушей Надежды Филаретовны «стыдную» тайну ее кумира. Фон Мекк поступила как настоящий светский человек: лишила Чайковского расположения, пенсиона и писем. Ее отступничество было едва ли не самым сильным ударом в жизни Чайковского. И не в денежной поддержке тут дело, к этому времени неплохие гонорары приносили ему сочинения и концерты, к тому же государь положил ежегодное пособие. Но оправдывались и наихудшие опасения: ему не место среди порядочных людей, и неизбежен час окончательного позорного разоблачения. В какой-то мере он оказался подготовленным к тому беспощадному суду чести, который был уже не за горами. А Надежда Филаретовна оплатила свой жестокий поступок потерей рассудка. Она кончила жизнь в сумасшедшем доме.
Грусть – превосходный материал для лирического творчества, но Чайковский не стал бы Чайковским, если б работал только на этом материале. Трагическое давно уже наращивалось в его музыке, а в том душевном состоянии, в котором он находился после утраты самого близкого духовно человека, в предчувствии конца, овладело им безраздельно. Шестая симфония могла и должна была появиться только в это время. Чайковский заглянул в глаза смерти и не отпрянул в ужасе и отчаянии. «Патетической» назвал он симфонию, не оставив себе иллюзии, что за смертью есть что-то, кроме пустоты, и принял такой исход, ничуть не обесценивающий чуда жизни.
Через несколько дней после исполнения симфонии Чайковскому на собственном опыте довелось проверить истинность своего художнического отношения к небытию. Это, пожалуй, единственный в истории искусства случай такой страшной и окончательной проверки искренности и правды. И Петр Ильич не дрогнул.
Нельзя дважды приговаривать к смерти, но можно умерщвлять память о человеке, восхваляя ушедшего за качества и свойства, ему не присущие. Во всем огромном мире ведома правда о мученической жизни Чайковского, искупившего этой мукой то, что искупать не нужно, и о страшном исходе. Только соотечественники так стерильно чисты, что просто не могут принять правду о жизни и смерти того, кто ввел российскую свирель в мировой оркестр. Как это жестоко и как больно!
Не надо пышных жестов. Но может, пора уже благодарно и покаянно принять истинный человеческий образ великого художника – мученика и жертвы.
Сто лет назад неожиданно оборвалась жизнь Петра Ильича Чайковского. Он только что закончил и исполнил Шестую симфонию («Патетическую»), лучшее, как он знал, а вскоре это поймут и другие, свое произведение, был на подъеме душевных и телесных сил, и вдруг – короткая болезнь и смерть. Как официально считалось – от холеры. Да, в Санкт-Петербурге свирепствовала холера, ежедневно люди в халатах с капюшонами, похожими на одеяние святой инквизиции, собирали и увозили для сожжения трупы несчастных. Но тело покойного композитора не сожгли, ему повелением государя-императора Александра III устроили соборные похороны. Для прощания открытый гроб был выставлен в Казанском соборе – честь, которой удостаивались лишь августейшие особы и высшие сановники.
Петербург недоумевал. Было известно, что Петр Ильич перед своей болезнью на глазах брата Модеста, племянника и слуги как-то очень театрально выпил стакан сырой воды. Как мог допустить такую неосторожность человек, боявшийся сквозняков, дождя, ветра, кутавший горло даже в хорошую погоду? По городу пополз слух, что Петр Ильич покончил самоубийством, приняв яд. А причину называли весьма близкую к той, которую уже в наши дни признали истинной многие исследователи жизни композитора, а другие – яростно и бездоказательно отвергают.
Вот версия, которая мне лично кажется единственно правдоподобной. Петра Ильича приговорили к самоубийству бывшие соученики по школе правоведения. Один из них служил в Собственной Его Императорского Величества канцелярии, и ему попалось письмо-донос от некоего барона, обвинявшего Чайковского в попытках совратить его юного сына. О том, что Петр Ильич был перевертень и никогда не знал женщины, было известно всем сколько-нибудь близким ему людям. Из четырех братьев Чайковских лишь старший обладал нормальной физиологией, трое остальных, поразительно между собой схожих, скрывали в себе женскую суть. Наткнувшись на письмо, чиновник испугался, что Александр III, отличавшийся строгой нравственностью, не только покарает Чайковского, но и распространит гнев на всю адвокатскую корпорацию. Он собрал однокашников и сообщил им о своем открытии. Они вызвали Чайковского и поставили его перед выбором: или добровольный отказ от жизни, или общественный скандал и позорный суд. Петр Ильич не колеблясь выбрал первое. Что было дальше, известно. Когда Александр III узнал подноготную смерти любимого композитора, он разрыдался и сказал: «Какие дураки! У нас баронов хоть завались, а Чайковский один». И распорядился о торжественной тризне...