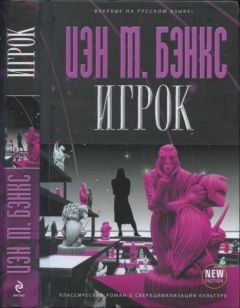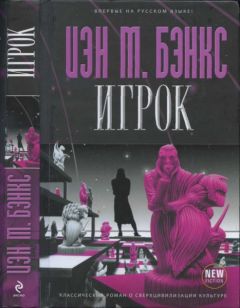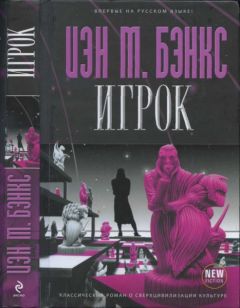— Вас не угнетает собственный цинизм, мистер Макгилл?
— А вас не угнетает недопустимость ваших действий?
— Мы мстим за причиненное нам зло и стараемся дать этим людям возможность лучшей жизни. У нас есть право делать первое и моральное обязательство — делать второе. Не понимаю, какой вы усматриваете в этом изъян.
— Ирак непричастен к одиннадцатому сентября, если вы это имеет в виду. Совершенно непричастен. А если вы хотите дать «этим людям» возможность лучшей жизни, то убирайтесь из их страны к чертовой матери. Прекратите вмешательство. — Олбан видел, что Фромлаке собирается ответить, но не остановился — мягко говоря, увлекся темой, а попросту говоря, дошел до ручки от американской наивности. — На самом деле, — продолжал он, — вы постоянно совершаете все новые ошибки, когда собираетесь компенсировать уже сделанные, так ведь? Сначала вам не нравится, что на выборах в Иране победили националисты левого толка, поэтому вы устраиваете военный переворот и ставите у власти шаха; потом вас раздражает и удивляет то, что иранцам не нравятся неизбранные тираны — ставленники Штатов, и в результате власть переходит к исламистам; вы десятилетиями закрываете глаза на средневековые варварства в Саудовской Аравии, потому что тамошние ублюдки сидят на нефтяной скважине, и вашим милым задницам нет никакого дела, что их прибыли идут на распространение фундаменталистского ваххабизма во всем мусульманском мире; потом у вас хватает наглости возмущаться, когда нашпигованные саудовскими фанатиками самолеты одиннадцатого сентября врезаются в ваши здания; вы поддерживаете агрессию Саддама Хуссейна против религиозной власти в Иране и не желаете понимать, к чему это может привести; в Афганистане вы поддерживаете моджахедов и получаете бен Ладена; вы поддерживаете…
— Да? А кто бы, кто по-вашему?..
— Нет, погодите, уважаемый, — сказал Олбан, делая шаг вперед и едва не тыча пальцем ему в грудь. — Я еще не все сказал. Дело в том, что вы и сейчас творите то же самое. В Пакистане вы в данный момент поддерживаете Мушаррафа, потому что он может помочь вам поймать бен Ладена. Исключительно во имя демократии, да вот только Мушаррафу пришлось устроить переворот, чтобы прийти к власти; он тоже никем не избранный тиран, военный диктатор, а кроме всего прочего, его государство уже имеет ядерную бомбу, а оппозиция, состоящая из крайних фундаменталистов, уже села ему на хвост, причем именно потому, что вы, ребята, его поддерживаете. — Олбан отступил на шаг назад, перенеся вес на другую ступню, скрестил руки на груди и смерил взглядом Фромлакса. — Вот вам другой сценарий, получите. Какой вы усматриваете в нем изъян?
Фромлакс покачал головой и выставил перед собой руки, ладонями вперед.
— Мистер Макгилл, — сказал он, глядя на гравий под ногами Олбана, — я нахожусь на вашей территории, в родовой усадьбе, в вашем фамильном доме, куда прибыл для совершения взаимовыгодной сделки. С моей точки зрения, вы агрессивный и неуравновешенный человек. А сейчас я намерен вернуться в зал и прошу мне не препятствовать.
Олбан какой-то миг смотрел на него, потом отрывисто качнул головой, отступил в сторону и назад, полностью открыв ему путь.
— Мистер Фромлакс, — окликнул он, прежде чем американец исчез за дверью в холл. Тот повернулся к нему с настороженным видом. — Я тоже был за эту войну на первых порах, — сказал ему Олбан. — Из-за этого мы чуть не разошлись с моей девушкой. У меня были свои доводы и аргументы, но знаете, что она мне сказала? Цитирую: «Искать оправдания войнам — все равно что искать оправдания насилию. Как ни приукрашивай свои мотивы, в конце концов остается только жгучий стыд за себя». Я целый год, не признавая очевидного, пытался найти какое-нибудь возражение, но так и не нашел. А вы что скажете?
Фромлакс посмотрел Олбану в глаза, покачал головой и скрылся в доме.
Олбан еще минут пять постоял на свежем воздухе, чтобы успокоиться, перевести дух и унять сердцебиение.
Наконец он сделал глубокий вдох и тоже вернулся в дом.
В танцевальном зале, где гости лихо кружились в искрометном шотландском танце «Рил для восьмерых», его поджидала тетя Лорен.
— Лорен, — сказал он, — станцуем?
— Может быть, позднее, — сказала Лорен, беря его за руку. — С тобой хочет поговорить Уин.
— Это можно, — сказал он. — Подать ее сюда.
— Она в гостиной, — сообщила Лорен, и они опять повернулись к дверям. — Похоже, у нее сильно испортилось настроение, Олбан.
— Неужели?
«Сегодня у меня это хорошо получается — портить людям настроение», — подумал он.
— Да, очень… А ведь она так радовалась. Оно и понятно, правда? — сказала Лорен, когда они шли по залу к гостиной.
— А как же — день рождения, — поддержал Олбан. — Круглая дата. И вдобавок такая куча денег. Понравилась ей моя открытка?
— Наверняка, — сказала Лорен.
Они остановились у порога гостиной. Лорен распахнула двойные двери. Внутри было почти совсем темно, лишь две небольшие настольные лампы освещали соответственно две стены, а в камине мерцали угли, венчающие горку золы. Казалось, в комнате никого нет, но потом Олбан разглядел маленькую фигурку, утонувшую в большом кресле у камина.
— Ступай к ней, — прошептала Лорен. — Я буду здесь, — добавила она шепотом, указывая на канапе и столик у самой двери.
Олбан направился в другой конец гостиной, где у камина сидела Уин.
Старушка неотрывно смотрела на догорающие угли в черной пасти очага — крошечные черные и желтые пещеры, изрезавшие холмик тонкой золы. От медного ведерка для угля, что стояло сбоку от камина, отражался темно-красный свет, который падал на седые кудельки Уин, делая их похожими на кружевную розовую ермолку.
— Уин, — сказал он. — Привет!
И сел напротив. Уин не сразу снизошла до того, чтобы посмотреть в его сторону. Перед ней на столике стоял стакан виски. Какое-то время она сверлила Олбана взглядом. Потом стрельнула глазами туда, где сидела Лорен, и удостоверилась, что та находится вне пределов слышимости. Подняв свой стакан, она сделала маленький глоточек.
— Насколько я понимаю, вы с Софи взялись за старое, хотя мы все считали этот вопрос закрытым.
— Можно и так сказать, — ответил он.
У него не было возможности узнать, что именно наболтала ей по его просьбе Софи. Он предпочел бы узнать это из первых уст, но его перехватила Лорен.
Уин не очень твердо поставила на столик свой стакан, следя за подрагивающей рукой будто за чужой.
— Вы действительно видите для себя совместное счастливое будущее? — спросила она.
— Почему бы не попробовать? — ответил Олбан, изображая беспечность и душевный подъем. — Я всегда буду любить Софи — я же говорил тебе. Мне казалось, она не отвечает мне взаимностью, но, как ты, очевидно, слышала, оказалось, что это не так. Возможно, у нас есть шанс найти счастье. Разве это плохо?
— Плохо, — ответила Уин, взглядом пригвождая руку со стаканом к столу, и опять подняла на него глаза. — Этому не бывать, Олбан. Этого нельзя допустить. Я не позволю.
Он покачал головой:
— Извини, Уин, но ты не сможешь нам помешать.
Поймав ее взгляд, он в изумлении увидел, что она плачет. В глазах у нее стояли слезы, сверкающие в свете от камина. Одна слезинка начала сползать по крылу носа. Уин то ли не замечала, то ли не обращала внимания, но не сделала никакой попытки вытереть нос.
— Прошу тебя, поверь мне на слово: это невозможно.
— Ни за что, — сказал он как можно мягче.
Какого черта она распускает нюни? Подумать только: он двадцать лет мечтал о том, чтобы довести эту старую вампиршу до слез, но теперь, когда она действительно всхлипывала у него на глазах, Олбан испытывал неловкость и тревогу, желая только одного — чтобы она успокоилась. Тем не менее все шло по плану, не так ли?
— Нет, боюсь, на этот раз ты нас не остановишь, Уин. Мы теперь взрослые. Как решим, так и сделаем, и ты вряд ли сумеешь нам помешать.
Уин кивнула. Слеза доползла до кончика носа, повисла и только подпрыгнула от этого кивка — крошечная капля, в которой играл свет камина. Ему не терпелось, чтобы слеза куда-нибудь исчезла, — хоть сам вытирай старухе нос. Неужели с годами настолько притупляются ощущения, что не чувствуешь своих слез и не торопишься смахнуть каплю, висящую на носу?
— Прежде всего, вы с Софи никогда не сможете иметь детей, — тихо сказала Уин.
Он нахмурился и даже позволил себе хмыкнуть:
— Не будем забегать вперед, Уин, но мне кажется, это не тебе решать.
Олбан открыл свой спорран. Там у него был носовой платок. Надо бы его достать — он уже был готов на все, чтобы только не видеть мерзкой, отвратительной слезы, которая висела у нее под носом, как сопля. Не исключено, что это одна видимость — для пущего эффекта. Многие мужчины полностью теряются при виде плачущей женщины. Он не из их числа.

![Адель Кутуй - Неотосланные письма [Повесть и рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/111709/111709.jpg)