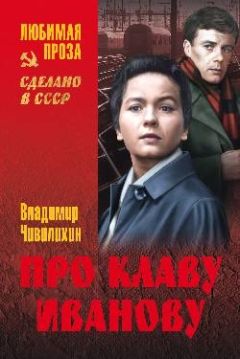- Оля! - Отец весело посмотрел па меня и пошел на кухню. - Оля, у нас сын вырос.
Они пошептались там, и мама, войдя в комнату, спросила так ласково, как только она одна это умеет:
- Ты не покажешь нам ее, Алик?
- Нет. Она еще ничего не знает.
- Альберт, - сказал отец. - Ты вырос, и я не буду тебе говорить никаких слов, вроде "не спеши, подожди", которые никогда и ничего не меняют. Ты сам все решишь.
И я был благодарен отцу, что он не стал расспрашивать и соиеговать, а незаметно перевел разговор на радиотехнику, о которой мы с ним можем говорить без конца. Свою специальность я полюбил с детства. Сейчас-то я понимаю, что многие годы отец поддерживал во мне интерес к радиотехнике, со временем добившись, чтоб уже не надо было его поддерживать.
А ее я встретил на вечере. Она все время танцевала с ребятами из своей группы, и я не смог ее пригласить. Скрывал свое чувство до самого конца, все боялся, не зная, как к этому отнесется она, друзья и, главное, Карлуша, который никогда не поощрял разговоров насчет девчат. Он был парнем серьезным, даже сухим п черствым с виду, но я-то знал, какая у него нежная п беззащитная душа.
С отцом мы однажды говорили об отношениях между парнями и девушками. Я попросил его прочесть одну журнальную повесть, и он сказал, что не понимает, зачем это начали так много печатать о скотском между молодыми людьми, объяснять и даже оправдывать это очень общими причинами, пытаясь уверить нас, что иначе уже и не может быть - время, дескать, наступило такое. Отец сделал длинную выжидательную паузу.
- Знаешь, - я посмотрел ему в глаза. - Если б все так обстояло в жизни, было бы худо. Но я знаю, что это не так...
На вокзале я попросил Карла передать Лайме подарок - вмонтированный в дамскую сумочку транзистор, который я собирал больше года. Поток, на котором учились Лайма и Карлуша, выпускался на полгода позже, и я думал, что заберусь-ка подальше, а ее Тем временем ушлют куда-нибудь в другую сторону - она мечтала на Дальний Восток, - и все забудется. Не вышло...
В Ашхабадском управлении гидрометеослужбы я сказал, что мне все равно, откуда засорять эфир, но лучше бы залезть в самую глубину пустыни. Молодой инженер, с которым я разговаривал, ухмыльнулся как-то скептически и сказал:
- Понял вас, коллега. Найдется такое местечко.
Послали меня на станцию Колодец Шах-Сенем. Метеоплощадка, финский домик, в двух километрах древняя крепость и сыпучие пески во все стороны до горизонта и за горизонтом. На небе ничего, кроме солнца. Ближайшие соседи жили на сто километров южнее; я побывал у них, когда добирался сюда. Там стоял точно такой же домик, пересыпались такие же пески, и палило то же солнце. Только станция называлась Екедже.
Когда я привел в порядок аппаратуру, перемонтировал кое-что и облазил окрестности, оказалось, что делать больше нечего. И я за праздник считал день, если после рабочего сеанса можно было посидеть у ключа, чтобы передать приказ на отдаленную станцию, которая не смогла принять Ашхабад, или сообщить еще какую-нибудь пустяковину.
Течение времени будто замедлилось для меня, и я взвыл. Правда, какое-то утешение приносила музыка. Как и все ребята, дома я делал вид, что меня увлекает модная, "горячая" музыка, хотя, честно говоря, она всегда меня раздражала тем, что ею были забиты все волны. Может, это шло от моей детской неприязни к музыке вообще, от тех смутных лет, когда родители пытались занять меня нотами и приходящей учительницей? А тут, в пустыне, я почему-то совсем не мог слышать истерических выкриков саксофонов и бесился, если сквозь писк и треск вдруг прорывался хриплый женский бас, может быть, уместный где-нибудь, только не здесь, в ночной пустыне.
Я написал в Ригу, чтобы мне прислали пластинки с музыкой, какую они считают стоящей. Так отец открыл мне Цезаря Франка. Все забыв, я слушал и слушал "Джинов", знал
из них каждый такт и, начав с любого места, мог до конца проследить внутренним слухом эту ослепительную поэму. Ночами я искал в темном и чутком мире старую, благородную музыку, вызывающую не искусственный психоз, не ощущение никчемности всего, а драгоценное чувство полноты жизни. И все время я думал о Лайме. Закрывал глаза, и она являлась в тонком белом платье, потом исчезала и снова появлялась, только я не мог никак рассмотреть ее глаз...
Мне писали ребята из Риги, но письма эти были без подробностей и какие-то чужие. Наверно, из-за телефона мы не научились писать писем. Они получаются у нас короткими и сухими, а чаще всего шутовскими. Я был недоволен и короткими записками Карлухи, почти официальными, хотя в жизни он был тонким и чутким парнем. Я просил его рассказать подробно, как Лайма приняла мой подарок, и он сообщил, что с радостью. Все. А мне надо было знать, как она обрадовалась. Еща написал ему. Он ответил, что она сказала: "Ах1" Но меня мало интересовали слова, которые Лайма произнесла, мне хотелось увидеть все остальное - ее лицо, руки, глаза. Может, она засмеялась, растерялась, покраснела или погрустнела? Только я не стал больше писать, потому что понял: ни один человек на свете, кроме меня, не увидел бы всех этих подробностей, и я напрасно изнуряю Карлуху, который, как я заметил в Риге, кое о чем догадывался и даже будто бы тяготился моим отношением к Лайме, хотя из-за своей стеснительности и тактичности ничего не говорил.
А тут мне с каждым днем становилось тошнее. Тянуло домой, к соснам и пескам на берегу моря, к яхте, которую отец решил поставить на консервацию, к сказочной летней Риге, к ее осенним дождям, к Лайме, шлепающей в босоножках по лужам. Я ждал любых перемен.
С первых дней работы меня раздражала Екедже. Я не знал, кто на ней живет, но передатчик там невыносимо барахлил, и я, скрипя зубами, вынужден был слушать время от времени его противное кваканье. Написал туда письмо и отправил с первой же оказией. От скуки и безделья подробнейшим образом перечислил возможные дефекты и даже вычертил схему передатчика с моими улучшениями. Вскоре Екедже зазвучала почище, по крайней мере можно было слушать ее без злости. Еще послал туда одно письмо-инструкцию, и станция заработала хорошо, без единого хрипа или хлопка, и я иногда стал даже
путать ее с главной нашей радиостанцией. И вот однажды я принял приказ из Ашхабада: "Опись неисправностей и схему радиста Альберга Сбоева размножить и разослать по всем станциям управления".
А через месяц меня послали открывать новую точку. На Кошобе я все сделал чисто, даже захотелось остаться н поработать немного, но меня, оказывается, ожидало еще одно поручение.
- Вы в двигателях разбираетесь? - спросил в управлении тот самый инженер.
- А что? - сказал я.
- Новый движок на Леккере два месяца не работает. Дули ветра - ничего еще, а эту неделю тихо, и ветряк стоит. Не сделаете?
На Леккере я с удовольствием разобрал и собрал двигатель, хотя в том не было нужды - неисправность была пустяковой. Потом долго проверял аппаратуру, научил тамошнюю радистку-туркменку делать из маленьких анодных аккумуляторов накальные, объяснил их соединение - короче, всячески оттягивал свой отъезд, и все время ловил себя на том, что думаю о Лайме. Будто стоит она рядом и смотрит на мои руки.
- Вы довольны, значит, что мы вас гоняли? - спросил в Ашхабаде инженер.
- Да!
- Я знал, коллега, что так будет, - понимающе улыбнулся он.- Но придется полюбить пустыню, другого выхода нет.
Он полагал, что видит меня насквозь, но дело-то было совсем не в пустыне. И когда я снова оказался в Колодце Шах-Сенем, то попытался пусть не полюбить пустыню, а хотя бы привыкнуть к ней. Ночами по-прежнему ловил музыку. Через пики н хребты чистые, без единой соринки, радиоволны несли индийские песни на два голоса. Их бездонная грусть н целомудренная интимность покоряли и обезоруживали меня. Уходили часы, только я не чувствовал их - время не то чтобы уплотнялось, а попросту исчезало, и с ним исчезало все остальное в мире, кроме меня, Лаймы, наших голосов, звучащих на этой прозрачной волне...
Полгода как я в Туркмении. Письма от ребят стали приходить реже, и я не особенно от этого страдал. Мне стало казаться, что я был уже взрослее их, во мне появилось то, что их еще ожидало. И я чутко прислушивался к себе, к безмолвной
пустыне, ждал ответных сигналов. Иногда мне казалось, что я улавливаю их, зримо представляя, как Лайма сидит где-нибудь в парке, включает мой приемник и тоже слушает Дели. Лайма- по-русски счастье...
И вот однажды произошло чрезвычайное событие, изменившее все. В урочный час и день появился над крепостью наш арендованный вертолет, пошел на посадку. Я побежал к нему, и сердце бешено заколотилось от какого-то неясного предчувствия. Летчик выкатил бочку с горючим и, заложив руки за спину, стоял у машины, снисходительно смотрел, как я подбегаю. Не дожидаясь, когда он скажет обычное свое: "Пляши!", я начал притопывать по черной, в мелких трещинах такырной земле.