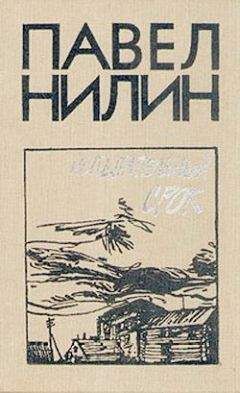Пассажиры по-разному оценивали железную дорогу. Одни радовались быстроте движения, тому, что несметные богатства Сибири, и в первую очередь ее продовольствие — пшеница и яйца, икра и рыба, мясо и масло — станут доступны всей стране. Другие, соглашаясь с тем, что дорога теперь все оживит и даст большой оборот деньгам и сильный толчок всей коммерции и торговле, огорчались в то же время, что — «глядите, уже сейчас заметно, как серьезно портится народ от этих самых железных дорог, как теряет совесть и приобретает жадность».
— ...Вы представьте себе на минутку, как раньше-то было на тракту при гужевом извозе,— вспоминал полный господин, похожий на не очень богатого купца или на содержателя постоялого двора: — Дашь, бывало, бабе три копейки и хоть шесть кринок топленого молока выпей с хлебом, шаньгами. Она тебе слова не скажет, только поклонится с этакой милой улыбкой. А сейчас та же баба на этой вот железной дороге три копейки за одну кринку молока спрашивает. Тут одну бабочку я хотел было палкой огреть: не поверите, честное слово вам даю,— пятак требовала за шаньгу и кринку молока. Я говорю: «Крест-то, мерзавка, есть ли на тебе?» А она говорит: «Я татарочка, господин веселый, мы без крестов хорошо обходимся». Вот видите, до чего распустили народишко-то с железными дорогами. И, наверно, еще, поглядите, не то будет.
Поезд шел, то как бы раздвигая густой, высокий лес, тесно обступивший полотно железной дороги, то гремел по настилам бревенчатых мостов, то медленно, будто робко, пробирался меж скал. И душистый, хвойный ветер, врываясь в открытые окна и двери, непрерывно прополаскивал внутренности вагонов.
За лесной полосой в небольшом отдалении от железной дороги проносились немногочисленные деревни, удивлявшие пассажиров из России раньше всего размерами новых изб, казавшихся огромными по сравнению с деревенскими избами где-нибудь под Пензой или под Смоленском.
На остановках, в вокзалах, еще пахнущих свежеспиленной лиственницей и сосной, на длинных столах пассажирам предлагались закуски, выглядевшие особенно аппетитными в сверкающей чистоте новых зданий. Мясо и рыба, сыр и колбасы, пышные белые калачи и большие тарелки черного душистого хлеба — все крупно нарезанное.
«И недорогое»,— про себя отметил Бурденко, купив на станции в буфете куриную ногу за восемь копеек.
Выйдя из буфета, он понял, что ошибся. За те же деньги или от силы за гривенник можно было купить целую курицу.
На длинных же столах под открытым небом продавали удивительно ароматное топленое, томленое, с толстой коричневой пенкой молоко, ранние ягоды и опять же мясо и рыбу разных сортов.
— Почем? — робко приценивался молодой человек, вынужденный считать каждую копейку.
— Да ты покушай сперва, милачок, попробовай. Не дороже денег наш товар. А за пробу вовсе ничего не берем.
Чем дальше, тем больше Бурденко нравился этот край, о котором раньше слышал много нехорошего. А здесь, должно быть, сытно, привольно и даже весело люди живут. И люди, заметно, спокойные, пышущие здоровьем. Будто русские и в то время и не совсем русские.
— Пожертвовай копеечку, господин!
Бурденко удивился, увидев женщину, высокую, худую, в окружении троих маленьких ребятишек. Четвертого, самого крошечного, она держала на руках.
— За папаней едем на самый край света.
— А где он?
— Да вон он, наш болезный.
Бурденко понял наконец, для чего предназначены вон те два последних вагона с маленькими зарешеченными окнами, от которых часовые часто отгоняли любопытных.
На одной станции он увидел, как к этим вагонам подвели небольшую партию арестантов в одинаковых халатах цвета пожухлой прошлогодней травы и в такого же цвета круглых шапках. На спинах желтели кожаные четырехугольники — бубновые тузы.
«Все это на крови, на костях,— вспомнил он слова отца своего, рассматривавшего недавно в журнале снимок отрезка Сибирской железной дороги.— Все на арестантиках отыгрываемся, на каторжанах. Все крупные сооружения в последнее время создаем только с помощью арестантов — в буквальном смысле на костях. Кто-то потом поедет по этим дорогам и не услышит, как хрустят под ним человеческие кости несчастных».
Бурденко хотел покормить эту худую высокую женщину и ее детей, подвел их к длинному столу с едой.
— Попейте молока, покушайте вот хлебца. Я заплачу.
— Копеечку у тебя просят. На что нам молоко! — сердито отозвалась женщина.— Что мы, разве нищие какие?
И позднее — уже в самой Сибири — Бурденко замечал, что нищие здесь не называли себя нищими и просили не хлеба, не еды, а копеечку.
Чем дальше он ехал, тем чаще ему встречались несчастные. И чаще всего это были не коренные жители здешних мест, а недавно прибывшие сюда и застигнутые несчастьем. Им или не понравилось в этих местах, или не смогли они приспособиться к здешним, в общем-то суровым условиям. Или их только что выпустили из тюрем, или ездили они навестить своих родственников в тюрьмах. И навещали их всей семьей — <ют стара до млада».
— ...Вы смотрите, что делается,— возмущался все тот же господин, сосед Бурденко по вагону, глядя на перрон из окна станционного буфета.— Наплодили детой и везут их куда-то. Помогни, мол, нам, чужой дядя, дай копеечку. А раньше-то об чем думали, когда затевали детей?
— Это верно вы говорите. В семейной жизни необходимо, надобно соблюдать, так сказать, аккуратность,— сдувал пену с пивной кружки и вытирал пшеничные пышные усы носовым платком другой солидный господин.— Прежде чем производить потомство, необходимо, надобно подумать об его пропитании, воспитании. И дать ему, разумеется, серьезное направление. Два-три ребенка может и должна создать любая супружеская чета. Их можно как-то и воспитать, двоих, троих. Но семь, восемь или тем более девять — это уже извините. Тут и правительству неплохо бы вмешаться со всей строгостью. Это уже извините за выражение, де-ге-не-ра-ция и в некотором роде распущенность утробы...
— Вы разрешите вас спросить, какой национальности будете? По жилету и по сапогам судя, вы не русский.
— Правильно вы угадали. Я человек не русской национальности. Хотя давно живу в России. А что?
— А то, что нам, русским, нельзя запрещать деторождение. Напротив, нам надо его усиливать, — вмешался в разговор мужчина атлетического телосложения в распахнутой черной сибирке.— Иначе где прикажете нам брать народ для заселения хотя бы вот этих пространств? А ведь надо их заселять...
И так всю дорогу.
Молодой человек, от природы очень живой и общительный и сейчас возбужденный всем происходящим вокруг него, жадно вглядывался в людей и вслушивался в разговоры, удивляясь и сетуя, задумываясь и негодуя вместе со всеми по поводу, казалось бы, совсем не касавшихся его обстоятельств. Ну, какое ему дело, например/ до того, сколько надо в каждой семье родить детей, чтобы заселить вот этот край? А и это входило как-то в панораму его впечатлений.
— ...И какие бы ни были впечатления — мелкие или крупные,— они так или иначе формируют нас, наше сознание,— говорил, вспоминая прошлое, Бурденко.— Этот проезд по Сибирскому железнодорожному пути объяснил мне многое даже лучше, пожалуй, чем могли бы объяснить книги. И в чем-то убедил и в чем-то разуверил. Хотя ничего серьезного в пути как будто не произошло. И рассказывать будто бы не о чем...
И все-таки Бурденко находил, что рассказывать.
Память его на подробности тридцатилетней, сорокалетней или даже полувековой давности всегда удивляла собеседников. К тому же, вспоминая прошлое, вот, скажем, эту поездку в Сибирь, в Томск, он не просто рассказывал, но просто вспоминал многое с мельчайшими подробностями, но как бы изображал в образах, в лицах.
— Просто артистически,— заметил кто-то.
— А я, вы знаете, я мечтал когда-то стать артистом,— откликнулся он однажды на такую похвалу. И вздохнул.— Много, о чем я мечтал, по не все, к сожалению, осуществилось. А вот волнение, какое-то странное, прямо обжигающее меня беспокойство, с которым я ехал в Томск, часто посещает меня и до сих пор. И до сих пор по временам вот уже, можно сказать, на склоне лет меня необъяснимо вдруг охватывает дух этакого беспокойства. Что-то я еще не успел сделать из того, что должен был сделать, что-то сделал не так, куда-то преступно опаздываю. Мне кажется иной раз, что этот дух постоянного беспокойства, наверно, сродни таланту. Вы чего улыбаетесь? Вам, может быть, показалось, что я нескромно по стариковской словоохотливости намекаю, что у меня есть талант. Ну что же. Я себя бездарным не считаю. И не считал, когда отправился в Томск. Даже тогда, пожалуй, я считал себя более — ну, конечно, более — талантливым. Не мог только угадать, в каком деле. Но был уверен, что у меня незаурядный талант. Теперь, правда, такой уверенности уже нет.
Неказисто выглядел Томск в конце девятнадцатого столетия, точнее, осенью 1897 года. Бревенчатый, тихий, беспорядочно разместившийся на холмах и в низине по правому берегу реки Томи и по обоим берегам узенькой зловонной речушки Ушайки, город этот раньше всею поразил молодого человека щемящей сердце скукой. Даже Пенза с ее вязкой грязью, с ее уныло-однообразной архитектурой представлялась теперь будущему студенту красивейшим городом по сравнению с пустынным и пыльным Томском.