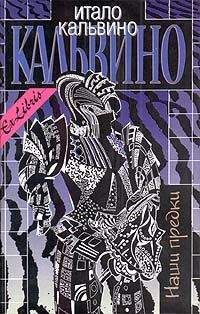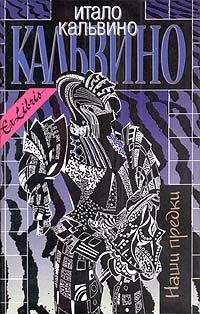В феврале ко мне снова приехала Клаудия. Мы пошли позавтракать в дорогой ресторан, приютившийся в глубине парка у реки. Сидя в зале, мы смотрели на заросшие берега, на деревья, на бледное небо; весь пейзаж был полон какого-то старомодного изящества.
Мы спорили о красоте и никак не могли прийти к одному мнению.
– Люди утеряли чувство красоты, – говорила Клаудия.
– Люди выдумывают красоту непрерывно, каждую минуту, – говорил я.
– Красота всегда красота, она вечна.
– Чтобы родилась красота, нужен толчок.
– Да, но греки!
– Что греки?
– Красота – это цивилизация!
– И отсюда…
– Вот и получается…
Так мы могли спорить до завтрашнего дня.
– Этот парк, эта река…
«Этот парк, эта река, – думал я, – они оттеснены в нашей жизни куда-то в сторону, могут быть разве что мимолетным утешением. Нет, старая красота не может устоять перед уродством нового».
– Этот угорь…
Посреди ресторанного зала стоял стеклянный ящик аквариума, в котором плавали большие угри.
– Смотри!
У аквариума остановилось несколько важных посетителей – богатое семейство, любители поесть: мать, отец, взрослая дочь, сын-подросток. Вместе с ними подошел метрдотель, огромный, тучный, во фраке и ослепительно белой манишке. В руках он держал сетку, похожую на детский сачок для ловли бабочек. Все семейство внимательно, без улыбки разглядывало плававших рыб. Но вот синьора подняла руку и указала на одного из угрей. Метрдотель погрузил в аквариум свой сачок, быстро подцепил выбранную рыбу, вытащил ее из воды и направился в кухню, держа перед собой, как копье, потяжелевшую сетку, в которой бился, извиваясь, обреченный угорь. Семья проводила его взглядом, потом уселась за стол и стала ждать, когда рыба вернется к ней, должным образом приготовленная.
– Жестокость…
– Цивилизация.
– Все вокруг жестоко…
Мы не стали звать такси и пошли пешком. Газоны, стволы деревьев обволакивала еле заметная влажная дымка, поднимавшаяся с реки. Здесь эта дымка была еще дыханием природы. Клаудия шла, закутавшись в меховую шубку с ниспадавшим на плечи воротником, спрятав руки в муфту, а волосы под большую пушистую шапку. Мы были лишь маленькой деталью картины, двумя силуэтами влюбленных.
– Красота…
– Твоя красота…
– К чему она? Так…
Я сказал:
– Красота вечна.
– А! Теперь ты говоришь то же, что и я?
– Нет, как раз наоборот.
– С тобой совершенно невозможно спорить.
Она отстранилась от меня, словно решив идти одна. По траве стлалась тонкая полоса тумана, и закутанный в меха силуэт Клаудии, двигавшийся передо мной по аллее, казалось, плыл над землей.
Вечером я проводил Клаудию в гостиницу. Войдя в холл, мы увидели, что он полон мужчин в смокингах и декольтированных дам. Шла карнавальная неделя, и в салоне гостиницы устраивался благотворительный бал.
– Какая прелесть! Ты пойдешь со мной? Я только схожу переоденусь в вечернее платье.
Я не создан для балов-маскарадов и чувствовал себя не в своей тарелке.
– Но мы не приглашены, – пробормотал я. – К тому же я не в черном костюме…
– Я не нуждаюсь в приглашениях. А ты мой кавалер.
Она побежала переодеваться. Я остался внизу и стоял как потерянный. В холле было полно девушек, впервые в жизни надевших вечернее платье. Готовясь переступить порог зала, они пудрились и возбужденно шушукались. Я встал в сторонку, стараясь сойти за посыльного, которого прислали сюда с пакетом.
Но вот дверь лифта распахнулась. Появилась Клаудия в длинном, ниспадавшем до пола платье, с ниткой жемчуга ria розовой груди и в полумаске, поблескивавшей бриллиантиками. Пришлось расстаться с ролью посыльного. Я пошел рядом с ней.
Вот зал. Мы вошли. Все глаза впились в Клаудию. Я раздобыл себе нечто вроде бумажной маски с длинным носом. Мы пошли танцевать. Когда Клаудия кружилась, все остальные пары расступались, чтобы видеть ее. Я же, почти не умея танцевать, все время старался замешаться в толпу, из-за чего наш танец очень напоминал игру в прятки. Клаудия заметила, что мне совсем не весело и что я совершенно не умею развлекаться.
Танец кончился. Направляясь к своему столику, мы столкнулись с группой беседующих мужчин.
– Ба!
Я увидел перед собой инженера Корда. Он был во фраке и в оранжевой бумажной шляпе. Мне пришлось остановиться и поздороваться с ним.
– Неужели это и вправду вы, доктор? Я смотрю и глазам не верю! – говорил он, не отрывая взгляда от Клаудии, и я понимал, что он хотел сказать: он никак не ожидал встретить меня здесь с такой женщиной, да еще в обычном моем наряде, в том самом пиджаке, в каком я хожу на работу.
Мне пришлось представить его Клаудии. Корда поцеловал ей руку и, в свою очередь, представил ей пожилых синьоров, которые стояли вместе с ним. Клаудия, как всегда рассеянная и высокомерная, пропустила их имена мимо ушей, я же, наоборот, то и дело мысленно восклицал: «Ах, черт! Подумать только, такие персоны!», потому что все это были крупные промышленники. Потом Корда представил меня:
– Доктор – редактор нашего журнала, вы знаете, «Проблемы очистки воздуха», совершенно верно, руководимого мной…
Мне было ясно, что все они немного робеют перед Клаудией и говорят глупости. Это придало мне смелости.
Я видел, что назревает некое событие, иными словами, я не мог не заметить, что у Корда так и чешется язык пригласить Клаудию танцевать. Поэтому, сказав: «Ну что же, мы еще увидимся, не правда ли?», я сделал общий поклон и снова потащил Клаудию в отведенную для танцев часть зала.
– Да подожди, ты же не знаешь этого танца! Ты вслушайся, понимаешь, что это такое?
Я понимал только одно, что своим появлением рядом с Клаудией как-то подпортил им праздник, хотя, быть может, они и сами не сумели еще понять как; это было единственной радостью, которую доставил мне бал.
– Та-та-та!.. – напевал я, притворяясь, будто делаю па, о которых не имел ни малейшего представления, на самом же деле лишь слегка поддерживая Клаудию за руку и стараясь не мешать ей двигаться, как она хочет.
Да и почему бы мне не повеселиться? Ведь наступил карнавал. Завывали трубы, превращая в дикую мешанину свои беспорядочные вопли; пригоршни конфетти, словно обломки штукатурки, барабанили по фракам и обнаженным плечам женщин, забиваясь под декольте и за крахмальные воротнички; гирлянды звезд из блестящей канители тянулись от люстр до самого пола, где их, свалявшихся в комки, пинали шаркающие ноги танцующих; эти гирлянды свисали сверху, словно жилы, вытянутые из тела, словно скелеты голой арматуры, болтающиеся среди обвалившихся стен, среди общего разрушения.
– Вы приемлете этот отвратительный мир таким, как есть, поскольку вы знаете, что должны его разрушить, – сказал я Омару Базалуцци, сказал отчасти для того, чтобы его подзадорить, иначе было бы неинтересно разговаривать.
– Одну минуту, – сказал Омар, ставя обратно чашечку кофе, которую уже поднес было к губам, – мы же не говорим: чем хуже, тем лучше. Мы – за улучшение. Не реформисты, не крайние, а мы.
Я говорил о своем, он – о своем. С того дня, когда я вместе с Клаудией побывал в парке, меня преследовало желание найти новое толкование мира, которое придало бы какой-то смысл нашему серому существованию, отстояло бы утрачиваемую красоту, спасло бы ее.
– Новое лицо мира.
Рабочий открыл черную кожаную папку и вытащил из нее иллюстрированный журнал.
– Вот видите?
Это была серия фотографий. Несколько человек, принадлежавших, видимо, к одной из азиатских народностей, в меховых шапках и сапогах, со счастливым видом ловили рыбу. На другой фотографии те же люди были засняты в школе; учитель показывал им изображенные на простыне буквы непонятного алфавита. На следующем снимке был запечатлен праздник. У каждого на голове был бумажный дракон, и среди этих драконов двигался трактор, над которым был укреплен транспарант. На последней фотографии двое рабочих в таких же меховых шапках работали за токарным станком.
– Видите? – повторил Омар. – Вот оно – другое лицо мира.
Я посмотрел на Базалуцци.
– Вы не ходите в меховых шапках, не ловите осетров, не играете с драконами.
– Ну и что же?
– А то, что у вас нет с ними ничего общего, кроме этого, конечно, – я показал на токарный станок, – вот это у вас уже есть.
– Э, нет, у нас будет так же, как там, потому что у нас изменится сознание. Так же, как и они, мы станем иными раньше внутренне, а затем уже внешне…
Говоря это, Базалуцци продолжал листать журнал. На одной из следующих страниц были фотографии доменных печей и рабочих с очками на лбу и суровыми лицами.
– Да, тогда тоже будут трудности, – говорил он, – не надо обольщаться и думать, что не сегодня-завтра… Оно еще долго будет тяжелым, производство… Но мы сделаем хороший шаг… Такие, например, вещи, какие случаются сейчас, уже не повторятся…