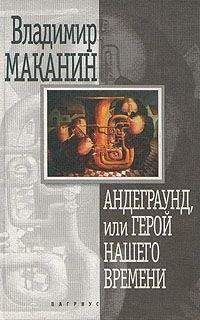Надо признать, он был добр к ЛД и участлив. Его правильно послали к ней первым.
Он спокойно спросил меня. (Когда ЛД вышла на звонок в комнату — к телефону.)
— Ешь ее? (такой, видно, зам-завовский сленг).
— Нет.
— М-м... А как же?
Я как бы пояснил:
— Она — меня.
В моих глазах, видно, мелькнуло недоброе (агэшник!). А он, конечно же, человек социумный и с интуицией, тут же все понял — понимал в людях! (Всю жизнь сидел за большим столом и слушал упрашивающих и умоляющих. Отказывал. Но понимал их.)
Он важно и весомо сказал:
— Наши интересы совпадают. Надо помочь ей...
Мол, что же сейчас нам ссориться, если и ты, и я за Лесю. Я кивнул — разумеется.
Из кухни, где мы с ним сидели, я слышал, как Леся говорила по телефону еще с одним из «бывших». Тот тоже был — за. Они все о ней теперь озаботились: ведь ЛД поработает, если ее посадить на нужное им место; и еще как поработает! (Но они послали вперед этого лакея-зама, старинного друга, мол, посмотри, как там она, осталось ли хоть что, не сплошные ли руины?..) В тот день я ушел раньше. Я ушел, а бывший третий зам (или кто он там — звали Андрей Андреевич) задержался. Я стоял на лестничной клетке, ожидая лифт. Дверь ЛД обита, хорошая и прочная дверь. Но все же через толщь двери я расслышал, как они смеялись — схожий с чем-то прошлым и очень счастливый был ее смех. Этакий забыто-девичий смех Леси. Незнакомый мне смех. Нет, нет, не любовь, не секс, а просто их общее. Прежняя жизнь, прежний смех. Во мне аукнулось и сразу же заныло, заболело. Вот где (в том смехе) она жила. Вот где (в том смехе) мягко лежалось ее сердцу. Смеяться бы ей вечерами, а не рыдать, стоя на четвереньках. Я позавидовал этому бывшему заму, этому запорнику, этому чего-изволите с дачей и с детьми в Цюрихе (пардон, в Аргентине). Кольнуло острым не за его, конечно же, детей (пусть! ради бога!), не за сытую былую жизнь, а за тот тучный пласт памяти, который счастливо срастил, сроднил его с Лесей.
Значило и время: демократы, первый призыв, уже линяли, не сумели они, так и не дотянулись, косорукие, до тех рычагов и рычажков, колес, шестеренок, какими делается в России реальная власть. Держались пока что инерцией, но себе в помощь (к ржавым рычагам) они уже звали кой-кого из сросшихся с прошлым. Конечно, не звали отпетых. Но середнячки, средненькие бонзы-партийцы уже пошли в гору. Уже было не обойтись. Поначалу их звали, конечно, в помощники на подступы, на пятые роли. Но скоро середнячок из пятого ряда выдвигался вперед, выпихивая демократа (честного говоруна) на престижную отмель, полежи там, дружок, отдыхай! Справимся. Ты полежи (а мы посидим в кресле). Ты выступай по телевизору. (А мы в кресле.) Пришел их час: ползучее возвращение, когда новое обновлялось старым.
Это к тому, что друзья, приходившие к Лесе (зачастившие теперь к ней), уже не были ни обиженными, ни бедными. Сидели в креслах. Пока что не в былых своих, но уже в мягких. И теперь (это им в плюс!) они вспомнили о друзьях, что тоже из «бывших». Они ожили. И каким серебром заиграла благородная проседь в их головах! Некоторые из них преотлично усвоили и свежую тональность, легкий колокольчиковый звук речей демократов — серебрясь теперь во всем, были уже неотличимы. Жизнь сращивала; жизнь сращивала и не таких!
Как-то придя, они увидели, что я торопливо чищу картошку — да, да, всего лишь торопливо чистил, скоблил картофелины тупым ножичком и сидел рядом с ЛД (Леся лежала). С этого часа и с этой минуты (я не преувеличиваю, это как часы) они стали по-иному со мной разговаривать. Мол, с ним не обсуждать и не спорить. Прислуга. Возможно, пока что он ей нужен. Возможно, сожитель, даже и е..рь ее неплохой, но ведь неплохой в том же значении и смысле (в смысле прислуживания-обслуживания). Психология начальствующих: агэшник для них всегда и только неудачник, никто. Он даже не пыль под ногами (не прах, который все-таки не топчи).
— Ты — добрый, Петрович. Ты добрый человек... Не ссорься с ними.
— А я не ссорюсь, Леся.
Когда я чистил картошку, они пришли вдвоем: они приехали. (Одному уже вернули госмашину.) Этот, что с машиной, — типичный сыромясый начальник. Второй — игривый босс из Комитета по науке, все потерявший в первые годы перестройки. (Все, кроме умения ждать.) Оба, разумеется, повидали людей на своем властном веку и мигом (нюхом) сообразили, что я никто, временщик в этих стенах.
Но еще не появился самый из них симпатичный. Весельчак. Пузан.
Тем временем прошла нужда в больничной сиделке. Выпившая, видно, крепкого портвешку, Марь Ванна сказала мне, расхрабрившись, что ежели я так одинок и неухожен (слышала наши с ЛД разговоры), то она сойтись готова: обухожен будешь! Обстиран будешь. Всегда, мол, с горячими щами в обед...
— Еще как наживемси с тобой, — заключила она, дыхнув вином. Тихонько икнула и прикрыла рот: — Оссподи!..
Я с улыбкой пересказал ЛД, подтрунивая над простецкой Марь Ванной. Думал, что нечаянные чужие слова иной раз приятны уху... Ан, нет. На другой же день ЛД ее выдворила, и больше Марь Ванны я никогда не видел. Мелочь. Пустяк. Но агэшная душа затосковала по этой смешной бабе и ее щам. По тем гениальным щам, которые мне (и Лесе) раза три-четыре успели сварить пахнущие рассолом бабьи руки. Cвитер заштопан — тоже ее руки. Там и тут успевала Марь Ванна, с хлопотливой готовностью и с шуточками тихо-тихо шагавшая по жизни. (И с промашками. Увы, портвешок.) Когда хвори, словно сговорившись, набегают на меня со всех сторон, я знаю теперь заговор — слово как оружие. Едва выйдя из метро и, с первыми шагами, окунувшись в уличный холод, говорю себе (помянув добром всех изгнанных):
— Еще наживемси!..
На деревьях сентябрьская паутина — к погоде; в один из погожих тех вечеров словно бы выпал из ветвей, упал паучком и оказался вдруг с нами четвертый из ее друзей, острослов и пузан. (Симпатичный мне, говоря общо.) Он приносил Лесе красную рыбу — рыбку из недорогих, но слабого посола, вкуснейшую и явно в счет былых знакомств. Кто-то делился с ним, с пузаном, по старой памяти. И только один-единственный раз они привезли по-настоящему много икры и коньяки, но съели без меня. Я ушел не из комплексов (агэшник играючи успевает на халяву съесть и, конечно, выпить) — ушел, потому что не выгорело. Пузан (обычное пузцо, серый костюм, свободный крой) меня попросту выставил. Приобняв, отвел к окну. Дружок, — сказал, — уж извини. Мы тут хотели побыть все свои. Что тебе наши излияния? Что тебе в чужом пиру болтовня?
Но тем сильнее Леся старалась, чтобы я был не только с ней, но и с ними, беседовал, общался, был вместе, почему бы и нет?.. Потому и нет, заспешил я, повторяя его же паутинно-мягкую интонацию — что мне, Леся, их рожи, что мне их ужимки, их постноменклатурные перемигивания, жрали всю жизнь, хапали, общались домами и ненавидели таких, как я, — поверь, Леся, я лучше напьюсь, сидя на ступеньках в холодном подъезде, на газетке, на еженедельнике «Коммерсантъ»...
— Дурак! Какой ты дурак! — сокрушалась она.
Тут вновь вошел Пузан. (Самый из них симпатичный.) Возможно, Леся всегда ему нравилась. Возможно, подумывал о ней, мол, крупная и породистая, и красавицей как-никак слыла в прошлом. Как не приласкать дамочку в печали в удачно подвернувшуюся минуту...
Леся его долговременные замыслы едва ли понимала. Но ценила его веселость. И, сближаясь, охотно ему демонстрировала свою скромную нынешнюю жизнь — свои заботы, свою маленькую квартирку, свои красивые полные руки и даже меня:
— Вот он — гордый! — показала на меня глазами. — Не хочет с вами поужинать.
Я уже надевал кепку.
— Не хочет с вами вместе даже руки под краном помыть, — заторопилась ЛД, смягчая известный народный оборот.
Пузан умел мило лавировать:
— Да. Мы отвратительны, — сказал он смеясь.
Возможно, я к ним несправедлив, искали свое место и ведь тоже люди, но замшелый агэшник не то чтобы не может — не хочет быть справедливым.
— ... Свинья! Грязная общажная свинья! — она и рыдала, и рычала, то хрипло выкрикивая, то жалко плача.
Но меня пробрало: я говорил. Если я хочу выразить мысль, меня не остановить:
— Потому ты и унижалась мной, что я — грязь. Смогли бы разве друзья, такие хорошие и сытые, — смогли бы они оценить твои слезы? твои страдания? твою рвоту по ночам...
— Грязь! грязь!..
— Ты и не стыдишься меня, потому что я грязь. Ты этой грязью (мной) унижалась. Но унижалась втихую — не на миру, а только для себя самой. Отлично, Леся, придумано: унижаться унижением, которое никто не видит!.. Однако и общажная грязь (я) не внакладе — мы тоже свое получаем, берешь и бери, только чтоб не кусать...
— Свинья-яя-аа... Ааа-аа, — ЛД рыдала, и я понял, что хватит. Сказал. Уже сказал. (Я еще кое-что держал в себе, но хватит.)
Время наносить раны и время жалеть. Ну, ладно, ладно, — шепнул. Я обнял ее, она била меня по лицу, по шее, попала в ухо, звонко попала! — по моей стриженой (после психушки) голове, по лбу, даже в глаз, но я перехватил руки. Мои руки сильнее, она вскрикнула. Я стиснул, поцеловал ее; ей больно — мне больно. Иди, иди ко мне, Леся. Это я, время жалеть.