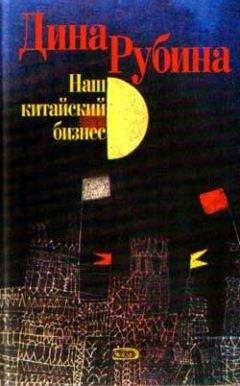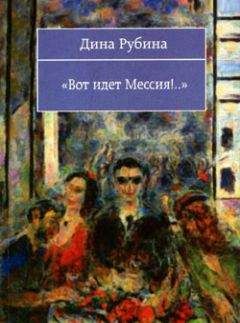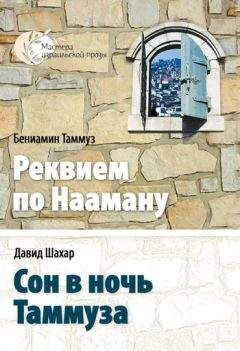Поэтому, Саша, я не понимаю — что такое полноценная и неполноценная солидарность. На днях, например, я вернулась из отпуска, дома была, в Иерусалиме. Там сейчас тревожно, напряженно… Поднимаюсь вверх по улице Королевы Елены, прохожу мимо знакомого магазина цветов и краем глаза замечаю нечто странное в витрине: флажки Германии, Франции, Италии, перечеркнутые крест-накрест черным фломастером. Подхожу ближе, читаю плакат: «Я бойкотирую этих выблядков. А ты?». Я очень смеялась. Речь, понятно, шла о странах Евросоюза, применяющего в отношении Израиля принцип двойного стандарта.
Испытала ли солидарность? Не знаю, скорее, любовалась чувством юмора и страстностью моих сограждан.
И, давайте, наконец, раскроем псевдонимы: вы ведь о евреях ведете речь? Если да, то, как говорил Карлссон — «продолжаем разговор». Вот в этом пункте — в деле обличения преступлений соплеменников — евреи бегут, да и всегда бежали впереди всего остального мира: почитайте Пророков. Мне ведь не надо вам объяснять, что это еврейские пророки обращаются к своему народу: Исайя, Иезекииль, Ирмиягу, — и несть им числа. Почитайте эти проклятия, эти страшные предсказания, эти громы и молнии на головы соплеменников. У какого еще народа столь беспощадный к себе эпос? (Я имею в виду Пятикнижие) Кто еще — может быть, французы, немцы, англичане, русские? — так подробно описывают свои преступления, войны, число убитых, подлости, коварства братьев, и прочее и прочее? У кого еще существует ежегодная молитва для всего народа («Видуй»), вся состоящая из покаянных воплей стыда и сокрушения? Посмотрите сегодняшние израильские газеты: ни в одной стране мира вы не отыщете такого количества гневных обличений и убийственных уничижений не только друг друга, но и всех руководителей страны на один квадратный сантиметр газетного листа, как в Израиле.
Так что, знаете, дайте-ка я просто буду любить свой народ, ибо не любить его есть кому.
Что не исключает моих внутренних с ним разборок и вполне нелицеприятных на эту тему рассказов, повестей и романов. Ибо писание — процесс интимный, а следовательно, плохо контролируемый и болевой. К тому же, между национальным чувством и национальной идеей разница кардинальная. Национальное чувство — это как чаепитие со своими стариками, которых ты навещаешь по субботам. Сидишь в домашних тапочках, пальцами ног свободно шевелишь… А национальная идея, это вроде: выскочил спьяну без подштанников на балкон — речь произнести. Тут ведь обязательно блевать получится. Кажется, Ремарк писал — «Национальная идея похожа на камень: когда его поднимаешь, из-под него выползают множество гадов»?
«Солидарность» же штука эфемерная, зависит от атмосферного давления. Что нам японцы, например, — симпатичные, далекие, старательные и умные? Хиросима там, Нагасаки, невинные мирные жертвы, ну и так далее… А стоило российской команде проиграть японцам, и пошли наши болельщики громить все вокруг, и даже побили, если память не изменяет, троих японских музыкантов, приехавших на конкурс Чайковского. Ну ее к черту, эту солидарность, Саша. У нее очень много оговорок и подкладка загажена. Давайте просто будем друг друга уважать и соблюдать законы, нравственные и юридические, над которыми человечество немало потрудилось.
Подкладка загажена и у любви, и вообще нет такой ценности, во имя которой бы не творились моря жестокостей и мерзостей. И уважать друг друга для меня означает в том числе еще и выслушивать без мордобоя самую жестокую правду о моих близких. Если моя дочь действительно «б…», то на констатацию этого факта я лишь скорбно кивну: «Увы, вы правы».
Одно другого не исключает. Это может быть и правдой, но по морде — надо обязательно! Причем, желательно до того, как успели констатировать факт.
Но в вашем переносе акцента с солидарности на любовь, я думаю, правы вы. Термин «солидарность» активно использовал великий Дюркгейм (Дюркхайм), сын раввина, создавший французскую социологическую школу. Основой «органической солидарности» он считал общую систему разделения труда. Но в национальном чувстве, быть может, еще более важно эстетическое чувство, о котором вы говорите.
Я говорю не об эстетическом и даже не об этическом чувстве, а о родственном, корневом, обреченном на… Саша, не ускользайте! Не пускайтесь в рассуждения! (Мой дед, когда хотел уличить меня в чем бы то ни было, кричал: «смотри мне в глаза!») Вы, автор замечательного романа «Исповедь еврея», — смотрите мне в глаза! По поводу же — «выслушивать мнение чужого и скорбно кивать»… Попробую ответить, не отшучиваясь… Меня не интересует мнение «чужого», ибо я знакома с такими темными сторонами «своего», с такими безднами, пороками и низотой, о каких «чужой» даже и не догадывается. Поэтому, когда я начинаю разбираться со «своим» сама, «чужой» пусть под ногами не путается. А «своему» я и сама могу сказать все за милую душу, мне пособничество «чужого» в этом деле не требуется. Может быть, тут дело в темпераменте, может быть, в том, что я человек совсем не новозаветный. Никогда никакого желания подставлять ни левую, ни правую щеки, у меня не было. Мне милее другой постулат моей веры, постулат великого мудреца Гилеля: «Не делай другому того, чего бы ты не хотел, чтоб сделали тебе». В эмиграции, где по первоначалу смещаются все привычные координаты — и этические, и эстетические — только эта нравственная установка и помогает держаться на плаву. Во всех смыслах.
Но не рождает ли эмиграция чувства некоторой раздвоенности: тело участвует в одной системе разделения труда, а душа тянется к чему-то иному?
Меня довольно часто спрашивают о самоощущении писателя в эмиграции. Собственно, это чуть ли не самый распространенный вопрос в любом интервью. Но — где она сегодня, эмиграция?
Каббала, как и многие тайные учения, утверждает, что мир возник путем «сжатия». Похоже, что и свое существование он закончит через «сжатие» — времени и пространства.
«Сжимается» все. Сокращается, как-то умаляется. Таким образом, страшно умалилось понятие эмиграции. Для писателей, которые на чувстве изгнанничества и чуждости строили свое творчество, свое мировоззрение, свою судьбу, — это просто трагический поворот событий. Ведь сегодня эмиграции не существует. Ее просто нет. Какая разница — где жить, если письмо, отправленное мною или мне по электронной почте доходит за какую-то секунду-две из Новой Зеландии в любую точку света? Когда ты можешь быть — в самом подробном и детальном смысле слова — осведомлен обо всем, что происходит на родине по нескольким каналам телевидения, по интернету.
В любой момент — при наличии денег — можешь прилететь, наконец, в родной город? (Я недавно предприняла поездку в Ташкент, это особая тема. Вообще, тема родного города, спустя многие годы возникающая в тебе спазматически — одна из основополагающих тем в литературе. Кафка в письме к фройляйн Минце Э. писал: «…для любого сколько-нибудь обеспокоенного человека родной город, даже если он рад бы не замечать этого, — нечто очень неродное, место воспоминаний, печали, мелочности, стыда, соблазна, напрасной растраты сил.»)
Я вспоминаю сравнительно недавний вечер в забегаловке на Московском вокзале в Питере, в родном городе Саши Окуня, нашего друга, известного израильского художника. Из Питера Саша уехал тридцать лет назад. И так совпало, что мы встретились, пересеклись в Питере на один вечер. Мы уезжали, а он оставался еще на день. И провожал нас на вокзале, восхищаясь этим обстоятельством — вот, мол, стоило уехать так давно, чтобы спустя тридцать лет, вернувшись на три дня в Питер, провожать друзей в Москву. Я вдруг вспомнила, как два года назад мы с Сашкой встретились в Венеции, а в прошлом и в этом году — наши застолья в Москве, вспомнила, как обычно и привычно сидим мы в Иерусалиме… Ощутила странную карусельность нашего бытия, когда ты — как ось, вокруг которой плывут города.
Я обронила несколько слов на эту тему, и Сашка принялся рассказывать, как однажды, путешествуя на машине по югу Франции, они с Верой заблудились, пропетляли весь день и к вечеру с трудом выехали на нужную дорогу. К ночи оказались в каком-то городке под Арлем. Сашка был так расстроен тем, что потерял целый день, так голоден, пропылен и измучен… С трудом отыскали они еще открытый ресторанчик. Вошли и сели за стол. Вокруг стоял полумрак, мерцали приглушенные лампы на каждом столике. Подошел официант, протянул меню. И, прежде чем сделать заказ, Саша, превозмогая смертельную усталость, спросил его:
— Какое сегодня число?
— 15-е, месье, — учтиво ответил гарсон.
— 15-е… чего?
— 15-е августа, месье, — чуть подняв бровь, ответил гарсон.
— А где мы? — спросил Сашка, и в этот момент как бы увидел себя и Веру со стороны, как их видит этот молодой человек. Он вдруг ясно увидел себя, одновременно испытывая странную слабость и остраненную ясность.