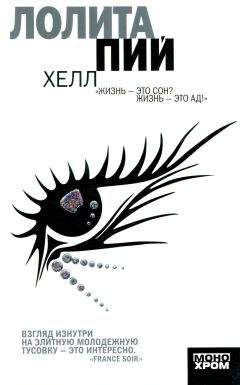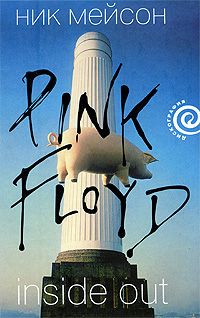— Ты же прекрасно слышала.
В моем мозгу словно вспышка: мертвенно-бледное лицо Кассандры, когда она увидела, что я села в машину, рассказы за ужином об этом Андреа, о его нигилистических высказываниях, о его кошмарных пороках (короче, я кое-что уже знала о нем, да и удивительно было бы, если б в том мире, в котором мы живем, не знала), — и еще та восторженность, которая охватила меня два месяца назад на авеню Монтень… И теперь, хотя только недавно я наслушалась о нем столько плохого, эта восторженность всплыла в моей памяти, перечеркнула все его безобразия и вспыхнула с новой силой, примирив меня с тем, что вроде бы должен внушать этот человек, которого мне так расписали.
— У меня плохая слава, правда?
С той минуты, да, с той минуты, когда он назвал себя, я сижу с ошеломленным видом и молчу.
— Ты сам знаешь… — наконец отвечаю я.
Несколько секунд он молчит, потом оборачивается ко мне с легкой улыбкой:
— И ты тоже.
Потом он спрашивает меня, не проголодалась ли я, я отвечаю, что нет, он говорит, что стесняется сказать мне, что он очень хочет побыть со мной, но пойти к кому-нибудь в нашем обществе абсолютно неприемлемо, вот и приходится, чтобы не прослыть дураком, скрывать свои самые бескорыстные желания под эгоистическими предлогами и даже под гнусными намерениями: легче заставить меня поверить, что он всего лишь ищет кого-нибудь, все равно кого, чтобы вместе поужинать, или еще хуже, что ему захотелось потрахаться, а я оказалась на его пути, я ему подходила, вот и все, чем признаться, что я его заинтересовала, заинтриговала, что уже два месяца он не может заставить себя днем и ночью не думать о той светлой встрече у «Baby Диор», и вот само провидение привело его в полночь на эту темную воскресную улицу, где он меня нашел и увез. Потом он добавляет, что я могу не верить ни единому его слову и сама должна сделать выбор, а я смотрю в его глаза и говорю, что умираю с голоду.
Он выезжает на авеню Пьеа I де Серби и паркуется перед массивной резной дверью. Вышибала у дверей, огромный детина, явно не в духе, но кивает головой. Должно быть, Андреа завсегдатай здесь, потому что этот цербер при виде его почти улыбается.
Он пропускает нас. Конура, жалкое бистро. Крохотный зальчик с низким потолком, там и тут расположились несколько мафиози самого низкого пошиба, с ними такие же уличные девки. Мне кажется, будто я нахожусь в избе — стены бревенчатые, деревенская мебель — и если я выйду отсюда, то окажусь в лесах Урала между стаей волков и парой беглецов с сибирских рудников. Мы садимся, я разглядываю сидящих в зале. Не лучшая часть общества. У мужчин на лицах застыла горькая гримаса. Какой-то верзила с отвислыми щеками и две проститутки, плохо перекрашенные блондинки, груди почти в тарелке, ошалело уставились на меня. Одна — старуха со следами порока на лице, истасканная, а вторая такая молоденькая… Мать и дочь? Сводня и ее жертва?
Музыка чудовищная. Около кухни два югослава, возраст которых даже трудно определить, по виду просто проходимцы, ссорятся из-за грязной пачки иностранных денег, осыпают друг друга ругательствами на своем языке. Фильм низшей категории. Я заказываю карпаччио и сигареты. Андреа только бутылку водки. Попытка поднять себе настроение? А я-то думала, что он и правда голоден. Я не понимаю, зачем он привел меня сюда. Какой-то декаданс. Я едва прикасаюсь к своему карпаччио, мои хорошие манеры здесь неуместны. Музыка стихает. Что будет еще? Сведение счетов, групповой секс? Я поднимаю голову от тарелки. В центре зала какой-то ужасный итальянец с двенадцатиструнной гитарой протягивает руку молодой проститутке, она заливается румянцем, встает, он берет несколько аккордов, ему вторит откуда-то выскочивший скрипач, еще один… И я слышу голос проститутки. Эта песня мне знакома, русская песня, восхитительная песня. Проститутка и итальянец кажутся чем-то единым, их голоса сливаются, звучат с неописуемой интонацией. И неожиданно этот маленький зал предстает предо мной совершенно иным. Андреа то прижимает меня к себе, то отстраняется. Я вся полна неожиданной красотой дуэта этих двух жалких людей, я дрожу. Все, даже источенные жучком стулья, приобретает иной вид.
Песня кончается, мой восхищенный взгляд встречается с взглядом итальянца. Он подходит ко мне:
— Вы споете, мадемуазель?
Я отказываюсь. Он настаивает. Настаивают и другие музыканты, настаивает Андреа, настаивают все сидящие в зале. Я в смущении. Словно в дурном сне я встаю, беру микрофон. Меня спрашивают, француженка ли я, предлагают мне выбрать песню. Единственная, которая знакома мне, это песня Лео Ферре.
Блуждающий луч старенького прожектора нацеливается на меня. Воцаряется тишина. Я в центре внимания. Я сжимаю ладонями свои обнаженные плечи, меня бьет дрожь. Старомодная высокопарность этой очень жизненной песни и мое молодое возбуждение как нельзя лучше соответствуют друг другу. Спотыкаясь, я выхожу в своих сапогах от Прады. Переминаюсь с ноги на ногу. И наконец начинаю куплет:
— Со временем… уходит, все уходит…
Я принимаю томный вид, в моем голосе звучат мелодраматические нотки:
— Со временем…
Я смотрю на Андреа.
— …все исчезает…
Он не спускает с меня глаз, его взгляд меня волнует.
Мне удалось найти ключ к непонятной для меня среде этого жалкого заведения, заполненного обездоленными эстетами. Теперь я одна из них.
— Со временем… уходит любовь.
Конец. Мне аплодируют. Я с улыбкой раскланиваюсь. С ироничной улыбкой. В свой адрес.
Я сажусь рядом с Андреа, он наливает мне водки. С соседних столиков сыпятся комплименты. От людей, на которых я даже не взглянула бы, встретив их на улице. Я благодарно улыбаюсь в ответ.
Вечер продолжается. Мы беседуем с Андреа, и в моей голове никак не укладывается, какая связь может быть между ним и теми мерзкими выходками, о которых мне поведала Виктория.
Он рассказывает о ресторанах, о том, что ему больше нравятся нью-йоркские, из-за их интерьеров, говорит, что любит Париж и не смог бы жить нигде, кроме Парижа, что он жил в Лондоне, в Нью-Йорке, но любит только Париж за его еретическое прошлое, им струятся стены и насыщен воздух на улицах, любит за свет уличных фонарей, отражающийся на мокрых тротуарах, за грустные лица за стеклами кафе.
Поэтому и номерной знак его машины парижский, объясняет он, Париж, только Париж, к черту провинцию и обывательские предместья, только мы заслуживаем его.
Я прерываю его и спрашиваю, зачем он творит всякие мерзости с девчонками, уж не гей ли он или импотент, а может, просто маменькин сынок?
Он смеется и называет меня отпетой потаскушкой, я спрашиваю его, должна ли принять это как комплимент. Он отвечает «да», потому что себя считает мелким подонком, даже настаивает на этом, а мужчина — мелкий подонок, на его взгляд, то же самое, что женщина-потаскушка, такая вот, как я, или, скорее, такая, какой я себя изображаю.
Тогда я спрашиваю его, что в его понимании значит «мелкий подонок», он отвечает, что быть мелким подонком — это стараться любыми способами выводить людей из себя, вот занятие, которое он сделал стилем своей жизни. Потом он принимается объяснять мне, что мир на 99 процентов состоит из слабоумных, да, из слабоумных, которые мнят себя серьезными людьми, они раздулись от тайных самодовольства и эгоизма, и ему ничто не доставляет такого удовольствия, как изводить всяких недоумков, мистифицировать их. Я спрашиваю, как же он это делает. Достаточно, говорит он, не принимать себя всерьез, афишировать свой «наплеватизм» к любым передрягам, обращать в шутку так называемые Ценности — деньги, социальный статус, политкорректность, нарушать все табу, выставлять напоказ все, что мы скрываем, все, что скрывают другие, не стыдиться ничего.
— Мне нравится мучить всяких богатеньких идиоток, всех этих никчемных красоток, которые воображают, будто все им обязаны, потому что они такие миленькие, я только хочу заставить их понять, что мир не вращается вокруг них…
Я была очарована, мне казалось, что я слышу себя. Никогда я не чувствовала такого сопереживания ни с кем…
Зал уже опустел, никто больше не поет, я с сожалением думаю, что мне пора уходить. Андреа склоняется ко мне, и у меня лишь одно желание — поддаться… Но я отстраняюсь, привычка инстинктивно посылать всех куда подальше берет верх, и я беру свою сумку:
— Мне пора идти. Спасибо за ужин.
Он в некотором замешательстве, но улыбается:
— Что ж, до встречи.
Я выхожу из «Калавадоса», делаю глубокий вдох, выдыхаю тоненькое сероватое облачко… Потом иду к авеню Георга V, чтобы взять такси. И останавливаюсь перед машиной… с номерным знаком 75ONLV75. Это вызывает у меня улыбку. И я принимаюсь танцевать, припрыгивать, я не чувствую холода, мое сердце бешено колотится, такого со мной еще никогда не случалось.