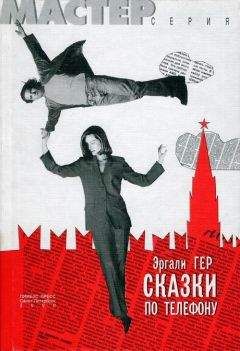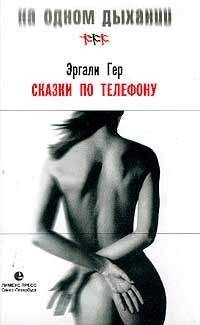Домой приехали в шестом часу. Выставив на балкон водку, Николай разделся и по командам принялся опорожнять сумки: мясо в холодильник, консервы в шкаф, банки на подоконник. Наталья, расстегнув свою искусственную шубу, сидела за столом и курила, подавая команды подсевшим, неверным голосом; он с неудовольствием сообразил, что ей, должно быть, не по себе в этой квартире.
— Не трясись, я там все убрал, — бросил он, имея в виду туалет.
Наталья чуть не поперхнулась дымом, потом кивнула с видимым облегчением.
— Извини… Я все боялась спросить… А тебе что — ничего?
— Ничего… — Ему не хотелось говорить об этом, он сразу почувствовал себя зачумленным, вроде того молодого кладбищенского человека в отутюженных брюках. — Ничего, нормально, — повторил он. — Только тут и нормально.
Наталья подавленно замолчала; он, понимая ее состояние, тоже молчал.
— Может, и ночевать тут собрался?
Он кивнул.
— А Серафима Никифоровна?
— Вот ты и предупредишь, чтобы не волновалась…
Потом позвонила тетка, так что с ночлегом уладилось само собой: договорились, что Полина переночует у бабушки, отчитались друг другу в сегодняшних делах и обговорили завтрашние… «Привет Сапрыкину», — сказал Николай, положил трубку и только вернулся на кухню, как пошли звонки один за другим — телефон словно взбесился. На третьем или четвертом звонке прояснилось, что вышла «Вечерка» с соболезнованиями сослуживцев, многие только сейчас узнали. Проклюнулись и его ребятки: привет, Калмык, мы все знаем, завтра придем. Если что надо, скажи… Другие спрашивали, что да как. «Она повесилась», — говорил он бесчувственным голосом, а дальше этого расспросы не шли — собеседники ахали, обмирали, плакали, — Николай со странным ощущением отчужденности и пустоты клал трубку на рычажки.
— Хочешь водки? — спросил он, возвращаясь после очередного звонка. — Тут открытая есть, специальная. Мама с утра, перед тем как, открыла и выпила рюмочку, вроде как на дорожку. — Он достал из шкафа початую бутылку, почти полную. — Я ведь все про нее знаю. Даже чем закусывала. Вот из этой рюмки она пила, — он достал из сушилки мамину рюмку, поставил на край стола, между собой и Натальей. — Граммов по пятьдесят, а?
Наталья молча смотрела то на него, то на рюмку.
— Алкоголичкой она не была, — заверил он.
— Знаю.
— Вот и отлично. Просто любила иногда посидеть за чистым столом, подумать. А лицо — она-то не видела — тяжелое такое, припухшее… такое, знаешь, когда человек думает, что жизнь не сложилась и уже на излете, вот такое лицо. Бутылки ей вполне хватало на две, три недели — без меня, конечно, то есть не при мне. При мне быстрее.
— Верю. — Наталья усмехнулась. — Может, все-таки поедем в Грачи?
Он мотнул головой.
— Не бойся, не напьюсь, самому страшно. Вчерашнего мне вот так…
— Ладно, — она махнула рукой. — Давай по пятьдесят. Только открой что-нибудь закусить — вон, огурчики.
Она пошла в прихожую, сняла шубу, Николай между тем вскрыл банку огурчиков и достал еще одну рюмку.
— А ничего, — выпив, оценила Наталья. — Ничего…
— То-то и оно, — сказал он, схрумкав огурчик.
— А про эту рюмочку да бутылочку я, представь, не хуже тебя знаю, — с некоторой натугой сказала потом Наталья. — Пока ты в армии был, мы с Надеждой Ивановной не одну бутылочку усидели. Вот так — по рюмочке, по одной…
Он промолчал.
— Ладно, пора и делом заняться, — подытожила Наталья, вставая.
— Не держала бы ты на меня зла, Наташка, — попросил он устало. — Я ведь и сам знаю, что кругом перед тобой виноват.
— Вот и знай себе на здоровье, — ответила она, усмехаясь и оглядываясь по сторонам, словно подыскивая себе дело. — Ничем не могу помочь.
«Ну и фиг с вами со всеми», — подумал он.
Они прошли в большую комнату, собрали банкетный стол, который, по детским впечатлениям, представлялся Николаю огромным, но оказался довольно-таки скромных размеров. Сходили к Тосе, соседке, и одолжили еще один стол, точно такой же, составили их буквой «Т» и накрыли двумя белыми скатертями.
У Тоси же реквизировали стопки, фужеры, столовые приборы, тарелки; Наталья переписала одолженное, потом пустилась в сложные хозяйственные подсчеты, сколько чего везти с собой из Грачей — получалось много. Даже стульев не хватало. Николай сходил на ближайшую стройку, позаимствовал две тяжелые мерзлые сороковки, подпилил, положил на табуретки, потом Наталья застелила лавки полиэтиленом и покрывалами — получилось хорошо. В тепле доски разнежились, запахли талой водой. По комнатам потек свежий, знакомый запах, чуть ли не новогодний, только с горчинкой: доски были сосновые.
— Остальное завтра, — подытожила Наталья.
Он кивнул: завтра так завтра.
— Чаю хочешь?
— Поставь, — согласился он, заваливаясь на мамин диван. — А я полежу, извини. Набегался за день.
— Ладно, отдыхай. — Наталья резко пошла в прихожую, вернулась одетая, с сумкой. — Только смотри, не дури. Будет худо — бери такси и дуй к бабке. Понял? Давай, до завтра.
Он поплелся за ней в прихожую.
— Пока, сказала Наталья.
— Пока, — ответил он, закрывая дверь. Слышно было, как она спускается вниз по лестнице. «Обиделась», — подумал Николай, потом пошел по квартире, выключая повсюду свет: в прихожей, на кухне, в большой, заставленной белыми столами комнате. «Ну, вот, — подумал он. — Наконец мы с тобой одни. Ты где?»
«В туалет не ходи, — предупредила мама. — И включи-ка свет в большой комнате, я хочу видеть эти пустые белые столы. Вот так. Давай посидим здесь, сынку».
— Погоди, — прохрипел Николай, метнулся на кухню и вернулся с маминой рюмкой водки, поставил во главе стола, перед мамой, и накрыл ломтем черного хлеба. — Вот так, — сказал он, отходя и присаживаясь на лавку. — Теперь давай.
8
И совсем на ночь глядя, в двенадцатом часу, телефон звякнул и залился истеричной междугородной трелью; вспомнив о жене, Николай выскочил в коридор, схватил трубку и услышал ее далекий, жалеючий, оробевший в эфирной пустоте голос:
— Коль, ты? Алло!
— Я, — сказал он. — Здравствуй, Танюшка.
— Здравствуй, папка, — отозвалась она. — Я вчера весь вечер звонила, и сегодня… Ты у бабушки был, да? Как она?
— Ничего, ходит. Я, правда, весь день на ногах, в городе, утром только и виделись. Вроде ничего…
— А что с мамой? Когда похороны?
Он собрался было выговорить то, что говорил сегодня по телефону раз двадцать, — и не смог. Не хватило духу. Затосковав, он сказал:
— Похороны завтра, но я останусь до воскресенья, наверное. Как Сашка?
— Сашка в порядке. Наловчился шлепать на четвереньках со страшной скоростью, прямо Маугли, человеческий такой лягушонок. Я в комнату — он за мной, в кухню — за мной, и почти не отстает, представляешь? В туалете невозможно посидеть спокойно — сидит под дверью и воет, пока не выйду, совсем волчонок.
Николай хмыкнул.
— А что с мамой, Коль?
— Пока неясно, медзаключение только к пятнице обещают. А так каждый врач талдычит свое. Приеду — расскажу.
— Ага… Коль, тут мама хочет с тобой…
Трубку взяла теща, пособолезновала, спросила, когда похороны, нужна ли помощь — материальная или еще какая, — Николай отговорился-отблагодарился, потом вновь проклюнулась Таня:
— Держись, папка, — попросила она. — Ты там один, что ли?
— Один.
Она виновато вздохнула. Теща настаивала, чтобы они ехали вместе, но Танька, всю жизнь боявшаяся чужих людей и чужих смертей, не смогла себя пересилить.
— Приезжай скорее, — попросила она напоследок.
— Попробую, — пообещал он.
Потом вернулся в комнату, застелил чистую простыню, а подушку и одеяло взял мамины — менять белье не было сил. «Похоже, сдрейфил, — подумал он. — Хотя — разве объяснишь такое по телефону? Разве объяснишь такое московской девочке, защищенной от дремы и яростной безысходности провинциальной жизни тройным кольцом окружных дорог?..»
Раздеваясь, он ощущал свое одиночество как легчайшую паутину, заткавшую все углы, все пространство комнаты — двигаясь, он разрывал нити и отчетливо слышал шелковистый шелест разрывов.
«И не в теще дело, — подумал Николай с досадой, видя перед собой приветливые, профессионально-приветливые глаза тещи. — Бог с ней, с тещей, умная женщина, почти правильная, тщательно подавляющая в себе всемосковскую истерическую боязнь иногородних; не в теще суть, хотя в ней тоже, если видеть за ней все эти ходы, лабиринты, связи, спайку пирующих во время чумы, весь этот город на семи холмах, бывшую матушку-гусыню Москву, ставшую для россиян знатной тещей. Да и кому нужен его страшный груз там, на Москве, среди гранитных декораций державного распределителя, где отныне распределялось и на его долю, где он и впрямь жил, как на сцене, оставив за кулисами детство, друзей, родных, весь этот запущенный, задымленный город с его кровавыми зорями, черным снегом окраин и белыми, белыми площадями, закрытый на замок город с общагами, номерными заводами, продкарточками, а теперь вот и мамой… Мамой, которой нет, но еще не совсем, на волосок не совсем, на два-на три волоска, прилепившихся к ее подушке…»