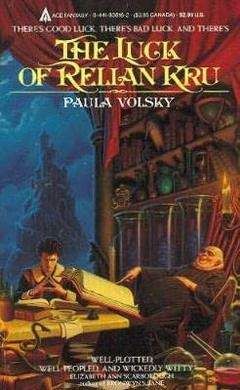Там, где они привязали лодку, деревья обрушивались вниз, так что верхние листья стелились по ряби и зеленый лиственный клин, лежащий на воде, чуть-чуть подрагивал, когда шевелились настоящие листья. Вдруг пробегала дрожь от ветра — открывался край неба, а Даррант ел вишни и бросал сморщенные желтые ягоды в этот зеленый лиственный клин, и черенки поблескивали, погружаясь и всплывая, и иногда надкушенная вишня летела туда же — красная в зелень. Джейкоб лежал на спине, и на уровне его глаз был луг, золотой от множества лютиков, а трава здесь, в отличие от чахлых зеленых ручейков кладбищенской травы, пытающихся затопить могилы, росла сочная и густая. Запрокинув голову, он видел глубоко в траве ноги — детей и коров. Хруп-хруп, слышал он, затем переход по траве, затем снова хруп, хруп, хруп, когда они ощипывали траву у самых корней. Прямо перед ним две белые бабочки кружились вокруг вяза, улетая все выше и выше.
«Заснул», — подумал Даррант, подняв глаза от своего романа. Он то и дело с забавной методичностью, прочитав несколько страниц, подымал глаза и всякий раз брал несколько вишен из кулька и рассеянно их ел. Мимо проплывали другие лодки, пересекая заводь из конца в конец, чтобы не сталкиваться, потому что много лодок уже причалило, и появились белые платья, и какое-то препятствие воздуху между двумя деревьями, обмотанными голубой лентой, — пикник леди Миллер. Все новые и новые лодки подходили, и Даррант, не вставая, подтолкнул их лодку ближе к берегу.
— М-м-м, — застонал Джейкоб, когда лодка качнулась и деревья качнулись, а белые платья и белые фланелевые брюки, длинные и трепещущие, стали растягиваться по берегу.
— М-м-м! — Он сел, и ему показалось, что упругая резинка хлопнула его по лицу.
— Они друзья моей матери, — сказал Даррант. — Так что старине Боу пришлось повозиться с лодкой.
И лодка эта прошла от Фалмута до залива Сент-Айвз вдоль всего побережья. А если взять лодку побольше, десятитонную яхту, с настоящим снаряжением, и числа двадцатого июня, говорил Даррант…
— Имеются финансовые трудности, — сказал Джейкоб.
— Об этом позаботятся мои родные, — ответил Даррант (сын банкира, покойного).
— Мне бы хотелось сохранить экономическую самостоятельность, — сухо проговорил Джейкоб. (Он начинал злиться.)
— Мать что-то пишет о поездке в Харрогит, — добавил он с досадой, ощупывая карман, где хранил письма.
— Ты правду говорил, что твой дядя обратился в мусульманство? — спросил Тимми Даррант.
Накануне у Дарранта Джейкоб рассказывал историю своего дяди Морти.
— Я думаю, он давно уже кормит акул, просто вести об этом до нас не дошли, — сказал Джейкоб — Эй, Даррант, всё! — воскликнул он, комкая кулек, в котором были вишни, и бросая его в воду. Бросая его, он увидел на острове пикник леди Миллер.
Какая-то неловкость, раздражение, угрюмость появились у него в глазах.
— Поехали, — сказал он, — эта мерзкая толпа…
И они поплыли мимо острова.
Перистая белая луна не давала небу становиться темным; всю ночь белели цветы каштана в зелени; тускло поблескивала коровья петрушка на лугах.
Похоже было, что официанты в Тринити тасуют фарфоровые тарелки, как карты, — такой грохот доносился из Большого двора[2]. А Джейкоб жил во дворе Невила[3], на самом верху, так что к нему входили немного запыхавшись; только сейчас его там не было… Скорей всего ужинает в Холле[4]. Во дворе Невила задолго до полуночи будет совсем темно, лишь колонны напротив всегда остаются белыми и еще фонтаны. Ворота там удивительные, как кружево на бледно-зеленом фоне. Даже из окна слышны тарелки и гул голосов тех, кто сейчас ужинает. Холл ярко освещен, распашные двери открываются и закрываются с мягким стуком. Кто-то опаздывает.
У Джейкоба в комнате стояли круглый стол и два кресла. Желтые ирисы в кувшине на каминной полке; фотография матери; членские билеты разных обществ с маленькими опрокинутыми полумесяцами, гербами и инициалами; бумаги и трубки; на столе лежало сочинение с отчеркнутыми красным полями, наверняка какое-нибудь эссе вроде «Исчерпывается ли история биографиями великих людей?» Книжек было порядочно; французских, правда, мало, но ведь, если человек что-то из себя представляет, он читает что ему вздумается, по настроению, уходя в это с головой. Там стояли, например, жизнеописания герцога Веллингтонского, Спиноза, сочинения Диккенса, «Королева фей», греческий словарь с шелковыми лепестками маков, засушенными между страницами, все елизаветинцы. Его домашние туфли были на редкость истоптанны — точно корабли, сгоревшие до основания. Затем фотографии древнегреческих скульптур, гравюра с картины Рейнольдса — все очень английское. Еще сочинения Джейн Остен — из почтения, вероятно, к чьему-то вкусу. Карлейля он получил в награду. Книги о художниках итальянского Возрождения, «Указатель заболеваний лошади» и обычные учебники. Воздух в пустой комнате неподвижен, лишь чуть надувает занавеску, цветы в кувшине подрагивают. Скрипит перекладина в плетеном кресле, хотя там никто не сидит.
Сойдя со ступенек немножко боком (Джейкоб сидел на диване у окна и разговаривал с Даррантом; он курил, а Даррант изучал карту), старик в развевающейся черной мантии, сцепив руки за спиной, проковылял неловко вдоль стены и пошел к себе наверх. Потом еще один, который поднял руку, в восхищении указывая на колонны, ворота и небо, потом третий — шустрый и щеголеватый. Все они поднялись по лестницам, в трех темных окнах зажегся свет.
Если над Кембриджем вообще горит свет, то идет он из трех таких комнат: здесь горит древнегреческий, там естественные науки, в первом этаже — философия. Бедного старого Хакстэбла всего перекосило, а Сопвит восхищается небом каждый вечер последние двадцать лет, а Коуэн смеется одним и тем же историям. Нельзя сказать, что он прост, или чист, или как-то особенно замечателен, этот свет знания, ведь если посмотреть на них в его лучах (на стене может быть Россетти или репродукции Ван Гога, в вазе — сирень или старые трубки), до чего они похожи на жрецов! До чего это все напоминает провинцию, куда едешь полюбоваться видом и отведать какой-нибудь особенный пирог. «Такие пироги пекут только у нас!» И возвращаешься в Лондон, потому что развлечение окончено.
Старый профессор Хакстэбл, переодевшись с методичностью часового механизма, опустился в кресло, набил трубку, нашел нужную статью, скрестил ноги и вытащил очки. Тут вся кожа его лица пошла складками, будто вынули подпорки. Но если собрать содержимое голов с целой скамейки вагона метро, голова старого Хакстэбла все это вместит. И сейчас, когда его взгляд скользит по печатному тексту, какое шествие марширует по коридорам мозга — стройными, быстрыми рядами, получая на ходу подкрепление от вливающихся отрядов, покуда все здание, весь купол, как его ни назови, не будет населен мыслями. Ни в одном другом мозгу не бывает такого парада. Но случается, он сидит часами, вцепившись в ручку кресла, держась за нее точно утопающий за соломинку, а какие раздаются проклятия, и все из-за того, что его мучит мозоль или, может быть, подагра; господи, а послушать его, когда заходит речь о деньгах и он вынимает свой кожаный кошелек, не в силах расстаться даже с самой маленькой серебряной монеткой, скрытный и подозрительный, как старая хитрая крестьянка. Непонятный паралич, закупорка — и блестящее озарение. Безмятежно над всем этим царит великий мудрый лоб, и иногда во сие или в тишине ночи представляешь себе, что он и на каменной подушке лежал бы торжествуя.
Сопвит тем временем, подойдя своей приплясывающей походкой от камина, стал нарезать шоколадный торт. До полуночи и позже у него в комнате засиживаются студенты, иногда человек двенадцать, иногда трое или четверо, но никто не встает, когда они приходят или уходят. Сопвит продолжает говорить. Говорить, говорить, говорить, как будто говорить можно обо всем — сама душа выскальзывает из уст тонкими серебряными дисками, которые растворяются в головах молодых людей, как серебро, как лунный свет. Ах, и далеко отсюда они будут это вспоминать, и в глубокой тоске оглядываться, и возвращаться, чтобы пополнить свои запасы.
— Ну и ну! А вот и Цыпочка! Ну, как дела, дорогой?
И входил бедный Цыпочка, неудачливый провинциал, фамилия которого на самом деле была Стенхаус, и, конечно, Сопвит тем, что называл его по-другому, сразу напоминал обо всем, обо всем, «чем мне вовек не стать» — хотя на следующий день, когда он покупал газету и садился в утренний поезд, все вчерашнее уже казалось ему каким-то нелепым, детским — и шоколадный торт, и молодые люди, и Сопвит, по обыкновению подводящий итоги; но нет, не все — он отправит сюда своего сына. Будет беречь каждый пенс, чтобы отправить сюда сына. Сопвит говорил, говорил, говорил, скручивая жесткие нити неловких высказываний — то, что вырвалось у студентов, — сплетая из них свой собственный аккуратный венок, нарядной стороной наружу, чтобы видна была яркая зелень, острые шипы, мужественность. Ему очень это нравилось. Сопвиту и впрямь можно было сказать все что угодно, но настанет время — и он, наверное, постареет, провалится, уйдет на дно, и тогда серебряные диски станут позвякивать глухо-глухо и надписи на них окажутся немножко простоватыми, а рисунок чересчур отчетливым, да и изображено будет всегда одно и то же — голова греческого мальчика. Но он будет его уважать, несмотря ни на что. Женщина, угадав в нем жреца, невольно запрезирала бы.