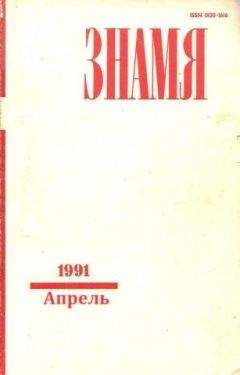Нас выстраивали парами, и я все время попадал с комсомольской активисткой, глуповато наглой Ритой Терехиной. Нас ставили друг против друга, и в противовес вражескому танго и вражескому фокстроту и, не дай Бог, страшно представить, буги-вуги! — тайному оплоту нашего классового врага, обучали падеграсу, падепатинеру, падеспани и другим замечательным бальным танцам.
То, что наша внешность мало гармонировала с этими великолепными танцами, никого не смущало, это сейчас я представил, и стало смешно. Но и грустно.
В застиранных темных рубашках, в дешевых брюках с пузырями на коленках или в шароварах, тоже дешевеньких, сатиновых, висевших на нас, на наших задницах, как мешки, мы топтались в тапочках, в сапогах, кто в чем, под дивные звуки музыки, поддерживали наших, ненавистных нам партнерш!
И никто над нами не смеялся, даже выписанный из Москвы по этому случаю, наверное, через райком комсомола, балетмейстер, интеллигентный с виду человек.
Он хлопал в ладоши, вскрикивал по ходу танца: «Кавалеры! Кавалеры! Изящно оттопыривая носок, вы плавно (Плавно! Я сказал!) берете своих дам за талию… Талию! Талию! А не за задницу! Простите! И легко, плавно, изящно, будто взлетая, делаете шаг вперед… И — раз!»
Зал, в нашем лице, изящно громыхал ножищами.
Василий, мой дружок, бойко топал по ногам своей партнерше — очи шли впереди меня, а я вспомнил, что Васька на днях лапал свою партнершу в кустах, по пути домой, а матери долго объяснял, что залил на работе клеем «БФ» свои штаны.
Сзади, нарочно толкая меня коленкой, вытанцовывал Витька Ларионов, почему-то в картузе и немыслимых обрезках, старых, но подшитых резиновой шиной от автомобиля.
— Кавалеры! Кавалеры! — кричал голосистый балетмейстер. — Будьте кавалерами!
А Васька, я слышал и все кругом слышали, матюкался по его адресу, потому что перерыв наш, сорок минут, подходил к концу, а значит, мы остаемся снова без обеда.
— Кавалеры не танцуют на голодный желудок! — ворчал Витька, и мы были с ним согласны.
Слава Богу, скоро эти танцы вообще закончились, и мы стали по вечерам собираться в одном из домиков в поселке, где под радиолу танцевали «запрещенные» танцы: танго и фокстрот, а до этого мы сами учились танцевать со стулом. Стул вместо партнерши. Но все равно это лучше, чем разучивать бальные танцы под руку с комсомольской дурой Ритой Терехиной!
А вот падеспань я ни разу с тех пор не танцевал, хоть еще и до сих пор помню, как надо, повернувшись к партнерше боком, делать шаг, потом другим боком, и опять шаг, а потом, взяв ее за руки (холодные, в поту, руки), вести ее, бойко и задорно, чуть выгибая шею и любезно улыбаясь.
Но это все прошло, и теперь уже не рассказать, не объяснить, какими странными мы были. Да и на вопрос моего сына: «А почему?», — то есть почему фокстрот считался не тем танцем, и почему надо было ходить танцевать по приказу свыше, и почему вообще что-то надо делать из того, что не хотелось, невозможно сейчас ни понять, ни доказать. Мы лишь говорим: «Так было». Почему «так было», почему это вообще могло быть, я и сам не знаю.
Но я сейчас лишь о трофейном голубом экспрессе, который пронесся миражем через мою юность, чем-то меня зацепив, мою память, мою залапанную чужими руками душу, может, и вправду, ютящуюся между пятым и шестым ребром.
Вагон дернулся. С шипением закрылись двери. Платформа поплыла назад. Она уже заканчивалась, когда резко и неожиданно, так, что всех сидящих тряхнуло и бросило вперед, поезд встал. Ясно, кто-то сорвал стоп-кран.
И те, кто дремал или читал, или просто сидел скучая и смотрел в окно, вдруг оживились и стали выглядывать наружу.
А я вспомнил, что произошло со мной. Произошло на одной из платформ, когда вдруг я увидел, что моя электричка, на которой я каждый день езжу на работу, отправляется. А если на следующей, уже известно, будет опоздание примерно на полчаса.
Закон в войну, да и после войны был суров, те, кто постарше, это помнят. За опоздание свыше двадцати минут судили.
Это мои часики, те самые, купленные по случаю на рынке, меня подвели. Но сообразил я, что бесповоротно опаздываю, лишь когда увидел отходящую на моих глазах электричку.
Не скажу, что я сразу представил себе показательный суд, расправу, срок и подобное. Но в краткий миг, в доли секунды пронеслось как откровение, что это конец.
Промелькнуло еще в уме слово «крах», без каких-либо подробностей. Просто «крах», и все. Больше мыслей не было.
Я бросился наперерез поезду по рельсам в нескольких метрах от первого вагона, уже рычащего от набираемой скорости.
И мысли, и мой бросок, и надвигающийся стеной вагон — все было одновременно, как и слово «крах», и слово «конец», гвоздем торчавшие во мне. Я даже успел рассмотреть черные чугунные колеса, которые вдруг ударили по ушам скрежетом и включили тормоза экстренной остановки, и посыпались на шпалы искры.
Я как зачарованный смотрел на эти грохочущие чугунные колеса, еще не осознав главного: поезд встал передо мной. Или, что точней, надо мной.
И тут последовал бросок, это был второй бросок, и он был начисто лишен осознанности, а состоял как бы из механических действий, независимых от меня. Я выпрыгнул на насыпь, стараясь при этом не попасть ногой между шпал и не споткнуться, двумя руками я ухватился за железную лесенку первого вагона. В то время как поезд свирепо рыкнул гудком, снова дернулся и стал набирать скорость, я, уже висящий снаружи, одной рукой рвал неподдающуюся дверь, и она вдруг сама распахнулась, и я ввалился, оказавшись на коленях, и так я вполз в тамбур: сумасшедший, видно сразу, человек!
Да нет, я не человек, а оголец, шпана, сволочь, ездют тут разные… Так на меня кричали, и накричал кондуктор, побелевший от страха.
Но я уже не слушал его. Я стоял, прислонившись к двери, и знал, осознавал одно: что я еду, еду, еду… Я в той самой электричке, которая уже и не была моей, которую я увидел на подходе, ускользающей от меня навсегда, улетающей, как птица удачи!
И вдруг перенесся в нее, это ли не чудо!
Уже за Люберцами я почувствовал, что кружится голова и меня подташнивает. Пусть. Пусть тошнит, пусть голова, пусть что угодно, ведь главное, я еду, и мои, отведенные мне минуты теперь уже совпадают С километрами, отведенными для этих минут, а значит, ничего страшного в моей жизни и в моей работе произойти не может.
О том же, что могло произойти ранее, я старался не думать; это не произошло, значит, этого уже нет.
А на работе, в курилке, стоя среди ребят, я услышал: «Какой-то дурачок сегодня бросился под колеса! Так тряхнуло, на меня свалился чужой рюкзак!» А другой: «Идиоты, себя не берегут!»
С этими, не предназначенными лично для меня словами, впервые ко мне вернулся истинный взгляд на происшедшее. Я вдруг как наяву увидел летящую на меня электричку, ее свирепо гудящие, сверкающие огнем чугунные колеса, дикий жар, гарь и пыль в лицо.
Стало душно, громко заколотилось в груди. Кругом решили: от курева, от дыма, и срочно вызвали в лабораторию добровольную санитарку Лелю Данкову, которая дала мне каких-то пилюль от позднего страха. Может, они назывались иначе, но я выпил, и все прошло.
Перово для меня — прежде всего рынок, барахолка, одна из самых крупных в Москве. А для нас, беспризорщины, Малаховский, да Томилинский, да Люберецкий, да Перовский рынки были для жизни более чем дом родной.
Мы их тасовали в любом порядке в зависимости от наших планов, но и других обстоятельств: наличие товара, милиции, знакомых урок, даже времени года, ибо все это вместе взятое и еще многое другое создавало нам условия и возможность что-то выкрасть и выжить.
Разговор идет, понятно, о временах войны. Это еще до того, как нас на Кавказ, к чеченцам, заслали.
А Перовский барахольный рынок звался тогда Рогожским и был на полкилометра дальше, это его уже потом перенесли и переназвали.
Здесь, и на Малаховском, и на Томилинском, и на Люберецком я прошел полный курс вступающего в жизнь детдомовца, у которого была тысяча врагов в лице блатяг, спекулянтов, барыг, всякого рода крысятников и урок, которым мы составляли конкуренцию, но и прижимистых бабок, и особенно кулачков, этаких отожравшихся в войну за счет эвакуированных сыторожих парней, откупленных от фронта за крупные суммы…
Они-то и били жестче всего, правда, при случае и урка мог пригрозить пером (ножичком) или ткнуть заостренной спицей; стальная спица от велосипеда была страшным оружием, ибо не оставляла почти крови, но протыкала тело насквозь, как свиной окорок.
Рынки и отдельные на каждом рынке углы поделены были на зоны влияния, как делят, к примеру, лес между собой волки или медведи или как делят озерко щуки.
И не дай Бог забрести в чужие владения да напороться на хозяев: мелких и крупных урок!