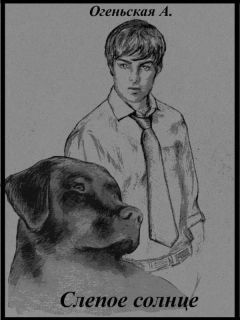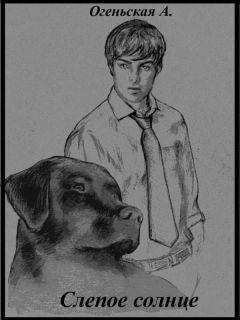В чувство, на котором выстроен рассказ, практически уже не примешивается традиционный для этой темы в нашей литературе мотив обиды (вспомним хотя бы «Мать и мачеху» Солоухина или беловские «Целуются зори»). Здесь другое — почти спокойное, мужественное и жесткое констатирование утраты Дома и Уклада.
Но это не самое тяжелое для повествователя, тяжелее другая давняя (и как бы длящаяся до сего дня) утрата — утрата Сада. «Сад» — название его первой поэтической книги, с которой он — русский поэт и этнический узбек — приезжает из Ташкента на семинар молодых поэтов в Москву. Это один из ключевых для романа эпизодов (здесь автору удалось «вплавить» лирическую документальную прозу в художественный строй своего романа). Май 1984 года. Одно из помещений издательства «Молодая гвардия». Автор представляет для обсуждения на семинаре книгу своих стихов. Стихи производят впечатление. Геворк Эмин: «Нам не надо его обсуждать. Это — готовый сложившийся поэт. Надо думать, что мы будем делать с рукописью „Сада“, куда рекомендовать книгу?» (имена руководителей семинара приводятся подлинные). Однако итог обсуждения подведен совсем другим человеком и в другой тональности — известным поэтом и редактором толстого молодежного литературного журнала Д.: «Я признаю за Хамидом несомненный литературный талант, дар, но мне кажется, что все же… он должен писать на своем родном языке, а не на русском. Так будет лучше». После этих слов, вспоминает повествователь, «гробовое молчание».
Эта сцена — почти метафора некой болезненно проживаемой нами сегодня общекультурной ситуации. Ситуации, сложившейся, как видим, отнюдь не в годы перестройки, когда многие из нас избавились от иллюзии советских времен — от убеждения, что проявления великодержавного шовинизма были свойственны тоталитарному режиму, и только. Поэт Д. никогда не числился в ряду оголтелых националистов, а журнал его был отнюдь не официозным изданием.
Здесь я отойду от текста романа (не для беглых обзорных заметок его сложнейшая архитектура и по-восточному прихотливое плетение мысли) и обращусь к обозначившейся проблеме, на мой взгляд, очень важной для нас сегодня.
…Мое поколение было свидетелем уникального культурного явления — обретения русской литературой некоего нового качества. Можно сказать — нового статуса. Я бы назвал его «статусом кроны» — единой кроны, образованной множеством деревьев, каждое из которых имеет свой ствол, свои корни. Именно на ее, русской литературы, пространстве начало полноценно оформляться многоголосие страны, которая называлась тогда СССР. Я не о политике. Я о человеческой и культурной составной нашего сообщества, нашей общей жизни. О русской литературе второй половины XX века, создаваемой еще и этническими узбеками, абхазами, киргизами, казахами и т. д. Русская культура оплодотворяла национальные культуры и одновременно расширяла свои возможности. Возникшее вначале как бы по идеологической разнарядке, это явление стало органичной, живой плотью русской культуры. «Сандро из Чегема», абхазский эпос Фазиля Искандера, — это чья литература? Напиши Искандер своего Сандро по-абхазски, это был бы другой роман, с другим внутренним наполнением, с другими точками обзора и отсчета. Или Анатолий Ким — он чей писатель, русский или корейский? Наша «внутренняя Корея», корейское мироощущение, осмысляется не просто на русском языке, но на русском литературном, то есть осмысляется из системы этических и эстетических ценностей русской литературы. Образно выражаясь, пером этих и многих других писателей русская литература продолжила свои «Подражания Корану». (Здесь можно было бы оглянуться в начало века и назвать имена некоторых дореволюционных писателей, но те писатели в большинстве своем изначально воспитывались в русской культуре, так активно они не вносили в русскую литературу другие национальные традиции.)
Процесс это естественный, он не поддается и не может поддаваться какому-то управлению извне, он развивается по своим внутренним законам. Его можно затормозить, но уже невозможно остановить. Мои заметки — это заметки о болезненных явлениях «торможения», но никак не отходная по недавнему нашему общему культурному прошлому.
Увы, была и осталась сегодня, может быть, еще и заострившаяся, враждебная настороженность ко всем этим «инородцам» в русской культуре — не только на обывательском уровне, но и среди как бы вполне интеллигентных литераторов, озаботившихся защитой самовитости русского литературного слова от чуждых влияний.
Есть и другая составляющая этой проблемы, не менее, а может, и более значимая: русские писатели Средней Азии, Кавказа, Украины, Прибалтики вдруг обнаружили себя в новой культурной резервации, созданной идеологами их новых независимых государств. Национальные движения многих союзных республик, в советские времена внушавшие большинству из нас безусловные симпатии своим позитивным, созидательным пафосом: сохранить, возродить свою культуру (а подлинная культура не бывает богатством только одного народа), — так вот, национальные движения многих (не говорю: «всех» — у меня, скажем, самые лучшие воспоминания остались от поездки в Армению) республик после отделения их от СССР поменяли свой пафос на прямо противоположный, агрессивно-оборонительный: оградиться, очиститься от «чуждых» элементов.
Однако как ни серьезна эта тема, я все-таки — о ситуации в русской культуре (и обществе), о старых и новых охранительных умонастроениях, предлагающих, по сути, замораживание живой, естественной жизни русского литературного слова. Причем здесь одинаково потрудились и так называемые «патриоты», и особо продвинутые интеллектуалы — упомяну хотя бы статьи (лично меня удручавшие полным отсутствием эстетического чутья у их автора) культуролога Л. Кациса, пытающегося отлучить поэзию Мандельштама от русской литературы.
Ситуация, в которой оказался автор «Собрания утонченных», — это, если называть вещи своими именами, ситуация отречения русской культуры от выращенного ею же самой явления. Отказ от собственного богатства, от собственной «всемирной отзывчивости», от собственных перспектив. (Интересно, чем была бы сегодня русская литература без ее внутреннего взаимодействия с мировой культурой последних двух веков?) Страх перед «чуждыми» русской культуре традициями, которые она вбирает и перерабатывает, внутренне связан с еще одним страхом некоторых наших «природно русских» литераторов, убежденных в крайнем вреде — для творческого человека — усвоения культуры вообще. В конечном счете защита русского языка и русской культуры от воспитанных ею же самой «инородцев» — свидетельство глубочайшего неуважения к возможностям собственной культуры.
Ситуация эта, сама по себе тяжелая и болезненная, становится необыкновенно плодотворной для Алтаэра Магди, выстраивающего сюжеты своего повествования. «…этот роман „Собрание утонченных“, для кого он? — Для узбеков? — Отнюдь. Ведь им и на узбекском все это до фени и без романа. Хорошо, для русских? — Могу предположить одного-двух востоковедов…» Иными словами, повествователь в этом романе предстает перед нами как художник, обладающий некой новой «литературной ментальностью». Я бы определил ее так: это ментальность художника, чувствующего себя наследником древней, изощренной восточной культуры, естественным путем исчерпавшей возможности продолжать свои традиции в прежних формах и потому воссоздающего эти традиции на языке новой для них культуры. Холодок пустоты, над которой завис обладатель новой литературной ментальности, и дает энергию повествованию романа. Культура, обретенная автором, подлинная, принадлежит уже не только ему и потому требует усилия для своего сохранения в новой, не самой благоприятной духовной и общественно-политической ситуации (еще раз напомню строку из выходных данных романа: «Ташкент — Москва — Лондон»).
Ну а теперь об Интернете, о его неожиданно обозначившейся новой функции, а можно сказать и с некоторым вполне уместным здесь пафосом, о его культурной миссии: похоже, что именно Интернету и суждено стать на ближайшее будущее нашим общим Домом, нашим Садом. Литературный Интернет не разделен границами, его пространство исключает возможность возникновения культурно-национальных резерваций. Это идеальное место сегодня для обнародования текстов, подобных роману Магди. (Ну кто возьмется его сегодня опубликовать? Для журнала — неподъемный размер, для издательства — экономический риск: издать не сложно, проблема — распространить, ведь это действительно «собрание утонченных», а не коммерческий боевик.)
И получается, что сегодня только Интернет способен на реализацию таких проектов, как «виртуальная Фергана» или, например, «Крымский клуб» — сайты русских писателей Узбекистана и Украины и соответственно узбекских и украинских писателей, чувствующих свое внутреннее родство с русской литературой, с русским читателем.