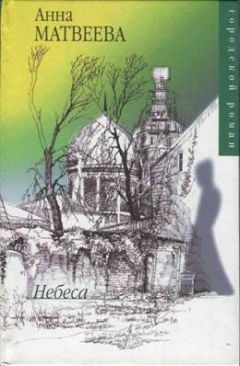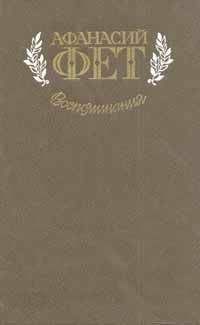Я думала, хоть Вера и смеялась тогда больше над собой, чем над теткой, эти ножницы часто влетают в ее взрослые сны.
Когда Артем пришел к нам домой прощаться, Петрушка привычно сидел на диване, склонив голову над книжкой. Я ахнула: «Сказка о попе и работнике его Балде»! Удружил… Впрочем, Пушкин ведь, не придерешься.
Отец Артемий погладил Петрушку по голове, и малыш нахмурился, долго разглядывал гостя. Сопоставил увиденное с картинкой в книжке и улыбнулся.
Я знала, что Артем едет в монастырь, к владыке Сергию, и мне хотелось подарить ему на память нечто важное. Именно Артем стал для меня тем самым прохожим, что один из всех показал правильную дорогу. Я отдала ему свою старую иконку и долго рассказывала о давних страхах.
— Я больше не боюсь смерти, — сказала я Артему, — зато Петрушка спрашивает чуть не каждый день, умрет он или нет. Я говорю, что умрет — для того, чтобы воскреснуть.
В те дни Петрушка страстно просил купить ему череп — «чтобы надеть на голову и пугать других мальчиков». Я испугалась сама, думала: что значит череп для маленького мальчика — символ смерти или победы над ней?
— Я буду скучать без Петрушки, — говорил Артем.
Он уехал в самом начале июня, когда мы с Петрушкой собирались в Крым — я мечтала показать сыну море.
Если любишь ребенка по-настоящему, тебе все равно, кто его родители. Я не думала о том, чей сын Петрушка, мне это было не важно.
Крым был его первым путешествием — и сын с готовностью впитывал дорогу, запоминал самые невзрачные мелочи. Много лет назад я так же потребляла собственное детство, пила его жадно, как стакан ледяного молока в жару.
Крым показался мне обшарпанным, но Петрушка не замечал ни помоек, ни темных мет на земле в кустах — туалетов здесь почти не было. Старомодно снятая комната в Новом Свете смотрела своим единственным окном на пляж.
…Я разглядывала близкие ноздреватые скалы, словно бы сделанные из миндального теста, а Петрушка носился по берегу, улепетывая от волны. Песок был здесь серым, как пепел, а крохотные раковины с раскрытыми створками казались похожими на мелких бабочек. «Пахлава, чебурэки, жареные сэмочки!» — кричали пляжные торговки, шагая меж полотенец и шезлонгов, и малоросский ласковый выговор намертво приставал к нам. Тем летом в Крыму Петрушка впервые увидел живых овец — толстых, словно связанных из свалявшейся шерсти какой-нибудь доброй бабушкой. Овцы доверчиво брали протянутые травинки, и дыхание у них было сразу и теплым и свежим…
Долгие прогулки по голицинской тропе, чинное фотографирование на длинноногой скамье и после этого пикник: глядя в бесконечные небеса, Петрушка затихал, а потом подбегал к краю скалы — мама, дельфины! Огромные зубастые чудища ныряли в волнах, и мое сердце обрывалось от счастья, летело «солдатиком» — со скалы прямо в море.
Сын засыпал, лежа на моих коленях — голова была тяжелая и теплая, будто нагретый солнцем арбузик.
Однажды рядом с нами разложила полотенца пара в средних годах: он и она полные, загорелые, с фигурными золотыми крестами на груди. Мы разговорились, они оказались москвичами, а я думала — питерцы, смутил быстрый ласковый выговор.
— Откуда вы? — обычный курортный вопрос. — Николаевск? — Она подняла брови, и спутник кивнул узнавая:
— У вас недавно сняли епископа, он был голубым и что-то сжег…
— Все совсем не так, его оклеветали, — начала объяснять я, пока Петрушка раскладывал стопками их карты в клетчатых рубашках. Они играли в деберц и записывали очки столбиками. Клочок бумаги, придавленный раковиной, и трепещущие на ветру чернильные графы, цифры и буквы H и П — Нина и Петр? Наталья и Павел? Или Николай и Полина?
— Ну, — перебил гипотетический Николай, — голубых в нашей церкви хватает, а вот что он сжигал книги — это безобразие. Правильно сняли.
Я замолчала, разглядывая ярко-желтое пятнышко в щегольской седой бородке Николая: наверное, курил, обжегся.
…Вечерами мы уезжали в близкий Судак и долго гуляли по набережной — город приветственно хлопал флагами полотенец, вывешенных на балконы. Татарские чайханы приветливо светились желтыми лампами, и мы обязательно заходили внутрь: Петрушке нравилось лежать за столом, как на диване.
За окном темнело море, густое, словно нефть. После южного вина, терпко ласкавшего горло, мне становилось грустно, и однажды я расплакалась, обнимая сына:
— Вырастешь и разлюбишь меня!
Он обвил шею горячей гладкой ручонкой.
— Нет, мама, я не разлюблю тебя! Не хочу вырастать.
«Пьяная дура», — ругала я себя и оставляла слезы на бумажной салфетке, и жадный ветер пытался сдуть со стола гривны, трепетавшие под тарелкой…
…Каждую ночь того лета Петрушка сбегал из своей кроватки, пригревался со мной рядом и крепко спал до рассвета. Диванчик был узким, как скамейка, я подолгу не могла уснуть в душной тесноте — мучилась, но думала: та ночь, когда эти побеги прекратятся и сын заснет в своей кровати до утра, станет самой печальной в моей жизни.
Петрушка вырастет, и наше общее детство начнет удаляться с каждой секундой. Лязгнет замок на воротах. Слушая дыхание малыша, я представляла себе тихую квартиру, где все предметы аккуратно разложены по местам, а если под столом померещится крошечный резиновый мячик, надо будет всего лишь помотать головой из стороны в сторону. Мяч немедленно обратится в упавший клубок пряжи или другую, сколь нужную, столь же и скучную вещь.
Никто не будет ласково обнимать меня за шею и говорить прекрасные глупости: «Мама, скоро я начну на тебе жениться!» Его волосы никогда не будут пахнуть нагретой полынью, мой сын вырастет и перестанет быть…
Горячая слеза обжигала кожу, будто кислота, я крепко обнимала сына и засыпала, свисая с краешка дивана, словно большой паук.
— Мама, что тебе нравится больше: море или небо? — строго спрашивал Петрушка, вглядываясь в горизонт, и поворачивал голову ко мне, требуя немедленного ответа. Я шутила, обязательно ли мне нужно делать выбор, но сын уже отвечал за меня со всей серьезностью: — Конечно, небо, ты все время смотришь туда и улыбаешься.
Над нами медленно проплывало стадо облаков — причудливо выложенные на голубом фоне фигуры тянулись очередью, заслоняя солнце, а солнце отбивалось от них будто капризный ребенок.
По возвращении из Крыма я первым делом повстречала Эмму Борисовну Кабанович. Милая Эмма выпустила слезу и не сразу заметила четырехлетнего ребенка, вцепившегося мне в ногу.
— Какой милый мальчик! Это твой, Глаша?
Только Эмма Борисовна могла задать такой вопрос — идиотский, но бьющий в самое сердце.
— Конечно, мой.
Эмма сощурилась хитровато:
— Одна родила?
Она так и не научилась говорить это слово правильно, падала на втором слоге.
Я кивнула, и старушка приосанилась, почувствовала поддержку:
— Знаешь, Глаша, ни разу в жизни… Ни разу в жизни я не пожалела, что решилась тогда на Виталика! А отец его не знает до сих пор. Не знал, он ведь умер в позапрошлом году. Я некролог видала в «Рабочем»…
Эмма Борисовна сильно состарилась за эти годы. Седину она теперь красила в бледно-сиреневый цвет, красила, по всей видимости, самостоятельно, поэтому оттенок получился тревожный. Петрушка крепко сжал мой палец, но не отводил глаз от странной бабушки.
Своей родной бабушки!
Я прикрыла рот ладонью, чтобы не напугать ни сына, ни Эмму. У старушки сильно тряслась голова — в результате удара: не то сыновнего, не то сердечного.
Не дожидаясь расспросов, Эмма завалила меня кучей новостей о Кабановиче — он теперь жил в Москве и работал в банке.
— Юристом, — благоговейно пояснила Эмма Борисовна.
Он получил второе высшее образование и вообще потратил эти годы куда плодотворнее, чем я или Сашенька…
— У Виталика тоже родился сыночек, Лева, — чирикала Эмма Борисовна, начисто, судя по всему, запамятовавшая, какую роль мне доводилось играть в жизни Кабановича. — Жена его, Света, милая девочка, и вся семья такая славная, Глаша!
Петрушка мрачно слушал про своего младшего брата — его назвали Левой — и довольно сильно дергал меня за штанину.
Эмма суетливо копалась в сумочке и выудила наконец снимок — глянцевый, яркий. Руки старушки сильно дрожали, когда она предъявляла мне его — как важный, востребованный документ. На фоне бордового ковра и хрусталя в классическом советском антураже застыло семейное трио Кабановичей. Вначале я рассмотрела ребенка, но он был полускрыт пеленками. Жена — белорыбица с едкими глазками — держала обе своих руки под мышкой у расплывшегося, обрюзглого мужчины: медленно и долго проявлялись в его лице знакомые черты. В нашем детстве были такие переводные картинки — мутно-желтая пелена аккуратно счищалась влажной тканью, и на поверхность проступали красочные автомобильчики, принцессы, цветы…