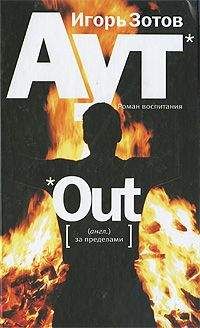Пропускаю последний месседж мимо ушей. Я уплываю в маниловские грезы: хорошо бы вывезти Марию со всем ее девичьим выводком – матерью и сестрами – в ЮАР, чтобы они переждали окончание нашей победоносной войны. А потом я на белом коне-лендровере въезжаю в столицу, возвращаю их на родину, устраиваю сестер в лучшую школу, а матери – безбедную старость. Ей, между прочим, всего-то сорок три.
Лечу с Марией в Париж, на Монмартр, она становится моей чернокожей музой. Пишу романы, а время от времени мчусь в какой-нибудь Никарагуа, свергать диктатуру какого-нибудь Самосы. Возвращаюсь на Монмартр героем. Пишу новый роман.
Буржуазный Париж и революционный Никарагуа – этот контраст, это ли не настоящая жизнь?! Захлебываюсь собственным восторгом. Растроганный, обнимаю Марию, целую ее всюду, всюду, всюду.
– Когда мы поженимся, Маша, я вместо обручального кольца вставлю тебе в верхнюю губу вот это! – я протягиваю ей на ладони квотер, каким-то образом завалявшийся в моей дорожной сумке еще с Нью-Йорка. – Чтобы ты никому больше не досталась. Как это называется у вас?
– Пелеле. Это, кажется, у киконде так принято. У нас это называют жажа.
– Вот-вот, пелеле, жажа, квотер, потом – доллар, потом паунд, потом, потом… Вот такое золотое блюдо! – я скругляю указательные и большие пальцы, большой получается круг. – И никто на тебя не позарится.
– А ты ревнивый, Венья! – смеется она, произнося мое имя по-русски.
Вечером возвращаемся к лагуне, я купаюсь в желтой воде, ныряю, прыгаю, вздымаю тучу брызг. Веду себя как пятилетка, которому мама разрешила залезть в реку после долгой зимы-весны. Мария улыбается с берега, и я то и дело выскакиваю, целую ее и с разгона бросаюсь обратно в воду. Восторг без конца и без края.
Солнце скрывается за холмами, мы возвращаемся в отель.
Нет нужды заказывать ужин в номер – весь ресторан у наших ног: ни души. Я выпиваю бутылку Gatao, съедаем лангуста и жареных креветок. К десерту прошу гавану, и гавана у них есть! Чем не райские каникулы для шпиона-любителя и его подруги?
– Ты помнишь того старика с пляжа? – спрашивает Мария, когда мы возвращаемся в номер и садимся в шезлонгах на балконе.
– Конечно. А почему ты спрашиваешь?
– Потому что я хочу, чтобы ты уехал, – она проговаривает это, не поворачивая головы в мою сторону, проговаривает туда, в темнеющую тишину.
– Как уехал? Без тебя? – шепчу.
– Со мной или без меня, но уезжай.
Она поворачивается, мы смотрим друг другу в глаза. Взгляд ее очень серьезен. Спокоен и серьезен.
– Не понимаю, Мария! Я не понимаю. И при чем тут старик с пляжа?
– Тебе нельзя оставаться в Африке, Венья. Африка не хочет тебя.
– Господи, что… что (я чуть было не сказал «что за бред?!», но вовремя осекся)… что случилось?
– Ничего не случилось. Ты прилетел сюда убивать, ты сам об этом говорил.
– Убивать!? Нет, Маша, нет! Я прилетел бороться, воевать, а это не совсем то же самое, что убивать. Воевать с режимом, с враньем, с голодом, с нищетой, в конце концов…
– Но, Венья, ты убивал. Убивали твои солдаты. Вспомни того старика на пляже, они могли бы убить и его, окажись они здесь. Я не хочу, чтобы ты убивал в Африке. Африка этого не хочет.
Она встала с шезлонга, опустилась на колени рядом со мной, взяла мои руки, поцеловала ладони.
– Я уеду с тобой, куда ты захочешь, я приеду к тебе, куда позовешь, только уезжай отсюда…
– Ты не приедешь, ты не приедешь, – повторял я.
– Приеду, – тихо сказала Мария. Слезы в ее темных глазах.
И я потерялся в ее руках, губах, в ее запахе: «Ты моя Африка, Маша, ты моя Африка…»
Альбинос сидел у входа за первым столиком, я сразу уткнулся в него взглядом. Он ласково кивнул мне, жуя тост с джемом, даже приподнял со стола ладонь – типа приветствия. Кивнул и я, прошел к бару, обернулся. Негр-альбинос – зрелище непривычное, поначалу жутковатое: белесые волосы, белое рябое лицо, красные глаза. Что он здесь? Непонятно.
Когда я проснулся, почувствовал сразу – солнца нет. Мария спала. Я тихо, стараясь не будить ее, заглянул за плотные шторы: солнца действительно не было. Я давно привык просыпаться и сразу видеть золотящееся голубое небо. Это небо было серым. Кажется, моросил дождь.
Оделся, спустился выпить кофе в баре, пока Мария спит. И тут вторая неожиданность – альбинос.
Заказал двойной эспрессо и сок. Заспанный бармен – и это третья неожиданность – поздоровался со мной как-то нехотя, без радушия, а вчера он чуть не плясал вокруг нас с Марией.
Я тянул сок через соломинку, разглядывая бутылки в баре. В барном зеркале явилось отражение альбиноса. Я напрягся, но обернуться не спешил.
– Райский уголок, не правда ли, мистер Бен? – был задан вопрос.
На английском, а на каком еще?
– Правда, – ответил я отражению.
– Быть может, вы хотите позавтракать? Я уже позавтракал и вам рекомендую – дорога не ближняя, – голос его был скрипуч, это усиливало нотку издевки.
– Дорога куда?
– В столицу, мистер Бен. Пора возвращаться. Туда, где вас ждут.
– Ждут? Кто ждет? – я все не оборачивался, вынуждая альбиноса говорить с моей спиной.
– Люди, которые хотят с вами поговорить. Советую вам, мистер Бен, позавтракать, даю вам полчаса. Вашу спутницу мы разбудили, она собирает вещи, она уедет раньше вас.
– Что ты сказал?! – я развернулся.
Альбинос стоял почти вплотную ко мне и невинно мигал красными глазками. Белые брови и белые ресницы – вот что было в нем самое отвратительное.
Я вскочил с табурета и рванулся к двери. Там стояли двое хлопцев в камуфляже, с автоматами. Они ощетинились, только я сделал первый шаг.
А вот и провал, и арест.
Как-то меня уже забирали в ментовку в Ростове. Там все было патриархально просто – мент вывернул руку, нагнул меня, так что я почти уперся в вонючую ширинку его серых штанов, подержал немного, отпустил и сказал: «Пошли, что ли?»
Здесь же все как в хорошем кино – почти ласково. Прислали альбиноса. Ночь стала днем, день – ночью, а времени больше не будет.
Я не увидел Марию. Ее увезли. Скорее всего, на моей арендованной машине. Разумеется, есть я не стал. В номере мне дозволено было взять зубную щетку, надеть брюки вместо шорт, ботинки вместо шлепанцев и еще куртку. В советском «уазике» (очевидная пародия на белого коня-лендровера), зажатого с двух сторон пахучими бойцами (альбинос на переднем сиденье), меня повезли в столицу. Ехали долго, мучительно, часа через два дождь перестал, вышло солнце во всей запоздалой красе, началась несусветная жара.
В Ньока-Прайя меня сдали в полицейский участок – душная крохотная камера с двумя пластиковыми ведрами: одно пустое – параша; в другом на треть мутноватая водица – пить. Ночью грызли комары – заснуть не пришлось. Утром угостили полмиской ссохшейся кукурузной каши. Ложку не дали, ел рукой, есть хотелось. Воду выпил, новой не дали. Ни допросов, ни вопросов. Еще ночь в сторожкой дремоте, еще пайка каши утром. Потом затолкали в тот же «уазик», правда, на сей раз без альбиноса, и колонна под прикрытием двух бронетранспортеров выдвинулась в столицу.
Альбинос навестил меня днем позже. В городе колонна рассосалась, меня повезли на Байшу, провезли мимо моей гостиницы и дальше переулками – в рыбный порт. Конвоиры вывели меня на причал, подтолкнули к катерку, бившемуся внизу бортом о деревянные сваи. Я прыгнул, упал на бок, но вполне удачно – ничего не сломал. Конвоиры – следом. В кабинке стоял за рулем боец в камуфляже. Конвоиры оттолкнулись руками от причала, и катерок почапал по грязной ряби гавани.
Качку не переношу: минут через двадцать стало мутить, разболелась голова, солнце палило сумасшедше. Я лежал, как упал – на боку, смотрел в воду. Как в воду смотрел.
Сознание ушло. Очнулся от ощущения легкого удара по голове, и тут же шибануло в ноздри сыростью. Мутно раскрыл глаза – это солдатик вылил на меня ведро забортной воды. Правда, лежал я уже не в катере, а на песке пляжа. Зачтут приговор, расстреляют? Банально как жизнь.
Повернул голову: метрах в двадцати ржавые ворота, за ними двор с белым низким строением в глубине.
Конвоиры поднимают меня, я оглядываюсь и соображаю: я на острове, на том самом, что дробил горизонт в ту первую мою ночь с Марией. Как раз за спиной, километрах в двух – берег, на котором мы стояли.
Я вдруг вспомнил, что кто-то в лагере мне уже говорил про тюрьму на острове. Странно только, что меня не повезли сначала в Seguranca, a сразу сюда. Боятся – сбегу? Впрочем, плевать. Эмоций нет – голова раскалывается.
Меня волокут за ворота через пыльную площадь, в барак, в камеру, кладут на тощий тростниковый матрас. Отворачиваюсь к грязной стене, закрываю глаза.
Это не сон. Или сон. Или бред. Не знаю. Мерещатся звуки, похожие на тревожную дробь тамтамов. Я часто слышал ее в буше. Но стоит разлепить глаза – звуки исчезают. Наступает звенящая жаркая тишина. Лишь изредка ее нарушают далекие голоса – то ли с улицы, то ли из тюремного коридора.