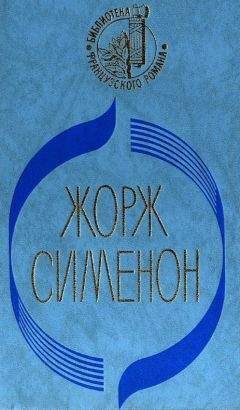Первым, пожалуй, узнал о них бедняга Ропар; примерно в течение года я иногда после работы отправлялась к нему на улицу Эперон и проводила там часок-другой.
Жиль умен, у него есть будущее. Профессор его ценит, поручает серьезные исследования. Собиралась ли я замуж за Жиля Ропара? Не уверена, хотя такая мысль изредка у меня и возникала, когда атмосфера в нашем доме становилась совсем уж невыносимой, а это у нас бывает.
Я всегда понимала, что люблю не его, а профессора. Жиль для меня скорее приятель, и хотя между нами существовала близость, я не придавала ей большого значения. А в Шимека я влюбилась сразу, как поступила в Бруссе, но долго думала, что тут мне не светит.
Над профессором многие посмеиваются, потому что он до сих пор говорит с сильным акцентом и отпускает шутки, которые не сразу поймешь. А иногда разговаривает сам с собой.
Он нисколько не похож на начальника, каким его обычно представляют. В нем нет значительности, которая есть в моем отце; лицо у него живое, и вообще он смахивает на постаревшего проказливого мальчишку. Тем не менее он член Медицинской академии и, как поговаривают, возможный кандидат на Нобелевскую премию.
Я всегда подстраивала так, чтобы остаться с ним наедине по вечерам, когда он задерживался, вскрывая подопытных животных — крыс, морских свинок, а с недавнего времени и собак. Теперь у нас в подвале живет их около трех десятков, и больные из других отделений жалуются, что по ночам собаки воют.
Шимек убежден, что следует верным путем, что его открытия пойдут на пользу человечеству, и с этого пути его никому не столкнуть.
— В чем дело, малышка?
У Шимека все лаборантки — «малышки». Так ему проще: у него скверная память на фамилии, особенно французские.
— Нет, ничего, месье. Просто подумала, не могу ли я вам чем-нибудь помочь.
— Ах, помочь? — насмешливо протянул он, словно видел меня насквозь. — Я вижу, вы не торопитесь после работы домой.
— Здесь мне интересней, чем дома.
— Даже так? А этот длинный рыжий парень, Ропар, кажется?.. Вы с ним больше не встречаетесь?
Я покраснела, смешалась и вообще готова была провалиться сквозь землю. Не думаю, чтобы он сказал это намеренно. И, конечно, не из цинизма. Позже я поняла, что он говорил так из-за какой-то внутренней стыдливости, как бы подтрунивая над собой. Уж не ревновал ли к Ропару?
— Вы с ним поссорились?
— Нет. Мы с ним были просто товарищами.
— А теперь нет?
— Теперь мы видимся только здесь.
— И он не сердится на вас?
— Нет! Он все понимает.
Профессор тщательно, как хирург, вымыл руки и что-то пробормотал на своем языке. Казалось, он раздосадован. Раскладывая инструменты, он ходил по лаборатории и вдруг взял меня за плечи.
— Влюбились? — спросил он чуть изменившимся, каким-то бесцветным голосом.
— Да, — ответила я, глядя ему в лицо.
— А вы знаете, что я женат?
— Да.
— И что у меня дочка — почти ваша ровесница?
— Ей всего четырнадцать.
— Вижу, вы неплохо информированы.
Я знала даже, что он живет в большой квартире на площади Данфер-Рошро, как раз напротив Бельфорского льва[15].
— На что же вы надеетесь?
— Ни на что.
— Только это я и могу вам предложить. Мне в моем положении вообще нельзя заводить связи.
— Знаю.
Может быть, он почувствовал мою страсть, преданность, всю силу моей любви? Перед ним ведь была не школьница, влюбившаяся в своего учителя, а женщина. Кроме Ропара, у меня были еще два недолгих романа.
— Странная вы.
И тут он притянул меня к себе и нежно поцеловал, сперва в щеки, потом в губы.
Мы ни разу не были с ним в нормальной спальне. Ни разу не любили друг друга на кровати; не считать же кроватью раскладушку, которую держат у нас на случай, если кто-то останется на ночное дежурство.
В рабочее время он обращается со мной так же, как с остальными, — вежливо, слегка по-отечески, но всегда чуть отчужденно. Я поняла — люди его не интересуют. Да, он посвятил свою жизнь и все силы тому, чтобы исцелять их, облегчить их существование, но каждый отдельный человек ему безразличен.
Я часто думала, каков он дома с семьей или с близкими друзьями, если они у него есть. Он в хороших отношениях с другими заведующими отделениями, особенно с кардиологом, но вряд ли это можно назвать дружбой.
Я принадлежу ему. И он к этому привык. Бывает, он неделями не обращает на меня внимания, зная, что я рядом, и так будет всегда, что бы он ни делал.
Я останусь старой девой. Эта перспектива не пугает меня, и, возможно, когда-нибудь, когда м-ль Нееф уйдет на пенсию, я займу ее место.
И все-таки я счастлива. Точней, была бы счастлива, если бы не жила в нашем доме, о котором мне даже не хочется вспоминать. Я чувствую себя виноватой, оттого что испытываю к маме только затаенную жалость. Мне и отца жаль, но еще больше я зла на него за то, что он такой.
Может быть, если бы он с самого начала не отмалчивался и не уступал маме, она была бы сейчас другой. На службе он, вероятно, выглядит внушительно. Во всяком случае, в собственных глазах. Ходит с важным, надутым, как сказал Оливье, видом, но не смеются ли над ним за его спиной сослуживцы?
Отец высокого роста, широк в плечах, у него офицерская выправка, однако ему недостает внутренней весомости, устойчивости.
Я часто думаю: неужели все мои ровесницы так же суровы к своим родителям? Дома у нас все шпионят друг за другом. Подмечается все — жест, слово, внезапный блеск глаз.
— Что это с тобой?
— Ничего, мама.
Отец вопросов не задает, только хмурит кустистые брови. И в ушах у него тоже растут пучки седых волос.
— Да скажи ты, чтобы их постригли, — предложила я ему однажды, когда мне казалось, что между нами что-то налаживается.
Он только глянул на меня, словно я ляпнула невесть какую глупость. Чтобы он, человек, облеченный такой ответственностью, обращал внимание на волосы в ушах?
А теперь он влюбился в Мануэлу, соперничает с собственным сыном!
Не желаю об этом думать. И я принимаюсь за работу в нашей самой маленькой лаборатории, где сижу чаще всего. В это время по субботам у профессора лекция, и работой руководит его ассистент доктор Бертран.
За мною следят и здесь. Уже с год, как о моих отношениях с профессором знают все. И, наверное, удивляются: лицо у меня некрасивое, чем же это я сумела взять его?
А может, считают, что он с его физиономией старого клоуна как раз мне пара? Я неоднократно слышала это прозвище. Да, правда, у него морщинистое и невероятно живое лицо, и рот он иногда растягивает, словно цирковой клоун.
А что еще можно сказать о нас? Повышения я не получила, поблажек мне не делается. Напротив, Шимек считает своим долгом давать мне самую неприятную работу. Это его ответ на пересуды.
— Ты редко опаздываешь. А уже четверть десятого.
— Мама утром себя плохо чувствовала, да и дорога ужасная.
— Не подежуришь сегодня днем?
— Можно.
— Только что подохла собака, которой полагалось бы прожить еще несколько дней. Шеф, несомненно, захочет выяснить, в чем дело.
Разумеется, я останусь. Пообедаю в столовой, очень хорошо. Оливье тоже пойдет куда-нибудь с приятелями. Только у отца нет повода не возвращаться в «Гладиолусы», но он закроется в кабинете и будет изображать, что работает.
Короче говоря, мы все удираем от мамы. У каждого из нас своя жизнь вне дома, свои радости, свои заботы. У всех, кроме нее. Съездить на машине за продуктами в Живри да раз или два в неделю отправиться в супермаркет в Версаль — вот самое большее, что она может.
У мамы есть брат и четыре сестры. Брат Фабьен — директор шоколадной фабрики Пуляра, живет с женой и двумя детьми в Версале. Сестра Бландина — в Париже на улице Алезии, ее муж — владелец автотранспортной конторы. Ирис не замужем, у нее небольшая квартирка на площади Сен-Жорж, она работает стенографисткой. Альберта, или, как ее называют, Толстуха, вышла замуж за крупного страсбургского бакалейщика, а Марион живет в Тулоне.
В столовой у нас висит фотография: мама и ее сестры, еще девочки, а в центре их родители — мамин отец, то есть мой дед, в офицерском мундире и его жена.
Время от времени кто-нибудь из тетушек наведывается к нам в гости, но это случается все реже и реже. Своих двоюродных братьев и сестер я почти не знаю, а тулонских вообще ни разу не видела.
Я работаю, на мне белый халат, на голове белая шапочка, но мыслями я далеко. Нас тут двадцать человек, ходим, выходим, сидим над срезами, ухаживаем за животными, каждому из которых мы дали кличку.
Звонок на перерыв, а мне кажется, день только начался. Я мою руки, чуть поправляю волосы и вместе с остальными иду в столовую. Там уже сидят медицинские сестры из других отделений, но на нас они не обращают внимания: мы составляем отдельный мирок.