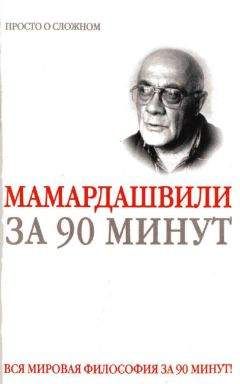— Почему только однажды? Вы же Мандельштама и в Госиздате видели, никто лучше вас о нем не написал:
„Эту книгу мне когда-то
В коридоре Госиздата
Подарил один поэт...”
Тарковский мою декламацию пресек:
— Инна, прекратите. Жизнь и стихи далеко не одно и то же. Пора бы вам это усвоить в пользу вашему же сочинительству. <…>”
И. Л. обмолвилась здесь, что, если достанет жизни и сил, она напишет и о других своих — дорогих памяти — современниках. Тут и Мария Сергеевна Петровых, и Чуковские. Будем желать и ждать.
Наталья Одинцова. Хранитель памяти. Анатолию Разумову — 50. — “Звезда”, Санкт-Петербург, 2004, № 12.
К недавнему юбилею составителя и создателя многотомного “Ленинградского мартиролога 1937 — 1938”, единственного штатного сотрудника Центра “Возвращенные имена”, легендарного сотрудника питерской Публички — Анатолия Яковлевича Разумова. Этого человека ценила и успела подружиться с ним — Л. К. Чуковская, его работу и его самого поддержали и поддерживают А. И. и Н. Д. Солженицыны, среди посетителей библиотеки он еще десять лет назад нашел себе верного помощника (Ю. П. Груздева), который вместе с ним, ежедневно, без выходных, на рабочем месте.
Мне посчастливилось немного быть знакомым с ним, и думается, что это едва ли не самый трудолюбивый, точный, несуетный и сильный интеллигент, встреченный мною за последние годы. На таких, как Разумов, все еще как-то и держится…
Памяти Рида Грачева. — “Звезда”, Санкт-Петербург, 2004, № 12.
Здесь пронзительное поминальное слово Андрея Битова и представленное Б. Рогинским письмо Грачева 1970 года.
“…Рид Грачев был бесспорно лучшим ленинградским прозаиком той поры (начала 60-х. — П. К. ), а может, по потенциалу и не только ленинградским. Его сорокалетнее протестное молчание — само по себе мощный текст <…>”.
Но для меня самым мощным оказалась фотография на второй стороне обложки “Звезды”, лицо Рида Грачева. Этот человек прожил на белом — или еще каком-то — свете своей тайной жизнью без малого 70 лет. Здесь же помещен портрет губастого мальчика, почти подростка — с цитатой из него (будущего): “Нужно отказаться от всех авторитетов, кроме авторитета любви: мы узнаем ее, стоит нам только освободить души от невероятного мусора, оставшегося после всех наших потрясений <…>”.
С. П. Пожарская. Франсиско Франко. — “Вопросы истории”, 2005, № 1.
“В начале 90-х годов прошлого столетия Хуан Карлос, отвечая на вопрос Вилальонга, как Испания могла перейти от почти сорокалетней диктатуры к демократии с конституционным королем во главе и все это произошло без больших волнений и потрясений, ответил, что, когда он взошел на трон, у него на руках были две важные карты. Первая — несомненная поддержка армии. В дни, последовавшие за смертью Франко (1975. — П. К. ), армия была всесильна, но она повиновалась королю, поскольку он был назначен Франко. „А в армии приказы Франко даже после его смерти не обсуждались”. Вторая карта — мудрость народа. „Я унаследовал страну, которая познала 40 лет мира, и на протяжении этих 40 лет сформировался могучий и процветающий средний класс. Социальный класс, который в короткое время превратился в становой хребет моей страны”.
Рубрика “Исторические портреты”, конец статьи. …А кто слушал — молодец.
Ирина Роднянская. В чем победа? (О книге Беллы Ахмадулиной). — “Арион”, 2004, № 4.
Чуть более сорока лет назад И. Р. предложила “Новому миру” эту рецензию на первый стихотворный сборник знаменитой поэтессы. Рецензию отвергли. “Как мне объяснили потом <…> поэзия Ахмадулиной — слишком заурядна, неперспективна и вместе с тем „авангардна”, чтобы так пристально рассматривать ее и так пространно о ней рассуждать. (И это при том, что рассуждения мои вряд ли можно было счесть апологетическими) <…>”. Мягко говоря…
Подберем пару-тройку цитат-ключей.
“И вот — сборник восхитительных, пленительных стихов, вызывающих стойкий холодок разочарования и отчуждения. Это не совсем парадокс”.
“Гибкость и изящество поэтической речи автора „Струны” многому могут научить остальных. Белла Ахмадулина умеет создать впечатление, что ей присуще, прирождено? изъясняться стихами”.
“Игра оказывается несерьезной, риск — неугрожающим, а бескорыстие — не более чем правилами все той же игры. На занавесе нарисованы „оранжевые” языки адского пламени и эмблемы ангельской чистоты, но это внешний, искусственный покров — не конфликты и контрасты жизни увидены за мелочами, а мелочи декорированы контрастами и конфликтами”.
Борис Рыжий. Приснится воздух. — “Знамя”, 2005, № 1.
Композиция из нескольких десятков стихотворений разных лет (от 1992 до 1999-го).
Вот ведь написал, за восемь лет до:
Фонари, фонари над моей головой,
будьте вы хоть подобьем зари.
Жизнь так скоро проходит — сказав “боже мой”,
не успеешь сказать “помоги”.
Как уносит река отраженье лица,
век уносит меня, а душа
остается. И что? — я не вижу конца.
Я предвижу конец. И, дыша
этой ночью, замешенной на крови,
говорю: “Фонари, фонари,
не могу я промолвить, что болен и слаб.
Что могу я поделать с собой? —
разве что умереть, как последний солдат,
испугавшийся крови чужой”.
(“Фонари”, 1993, декабрь)
Вслед за подборкой Рыжего публикуется хорошее, умное, ближе к финалу щемяще-пронзительное эссе знаменитого голландца Кейса Верхейла. Оно является вступительным словом к русско-голландскому сборнику Бориса Рыжего “Облака над городом Е”:
“Говоря о мелодичности как существенном признаке поэзии Бориса Рыжего, я имею в виду не только ее физическое звучание. Мелодика в его случае — это в не меньшей мере внутренний принцип, так что помимо мелодики в буквальном смысле можно говорить и о мелодике стиля, мелодике мыслей и мелодике чувств.
Если попытаться вникнуть в загадку психологического механизма, стоящего за стихами Бориса, то можно предположить, что это поэзия человека, находившегося под воздействием реальных контрастов такой силы, что в жизни он не смог с ними справиться. Эти противоречия в его биографии и в его душевном строе в конце концов и привели к его добровольной смерти. Но пока он был жив, они время от времени находили хотя бы символическое разрешение в необыкновенной гармонии его стихов.
Поэтика Бориса Рыжего, как я ее понимаю, как раз и состоит в игре в решение опасных экзистенциальных противоречий за счет мелодики <…>”. И далее К. В. приводит и разбирает мое любимое стихотворение Б. Р. “Я тебе привезу из Голландии Lego…”.
Сергей Слепухин. Стихи. — “Звезда”, Санкт-Петербург, 2004, № 12.
Оттуда же, из “города Е”, из бывшего Свердловска. Пятилетней давности первая книга стихов называлась “Слава Богу, сегодня пятница!”.
Земля стоит на трех китах,
А Небо — на одной голубке,
Уравновешивает страх
Весенний воздух, странно хрупкий.
Как тяжело перемещать
На юг, восток и север дикий
И в крыльях ломких умещать
Святых растаявшие лики,
Держать над пыльной головой
Непросветленного поэта
Спасительный и роковой
Прозрачный нимб с каемкой света.
Дмитрий Тонконогов. С миру по танкетке. — “Арион”, 2004, № 4.
Маленькая “антология” реализации новой стихотворной формы, придуманной А. Верницким.
“В самом слове „танкетка” есть что-то симпатично несерьезное, тут и боевая гусеничная машина, и подошва женской туфельки. Это такая филологическая игра и просто приятное интеллектуальное времяпрепровождение”. Из шести “танкеточных” авторов выбираю двоих; в отобранном, заметьте, неожиданно оказался похожим “сортовой”, “маркировочный” мотив:
зебры
штрих-код саванн
(Алексей Верницкий)
Сибирь
Гиперссылка
(Роман Савоста)
См. также: А. Верницкий и Г. Циплаков, “Шесть слогов о главном” — “Новый мир”, 2005, № 2.


![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)