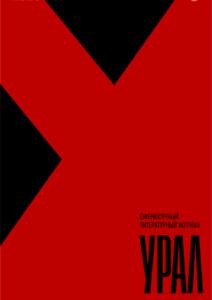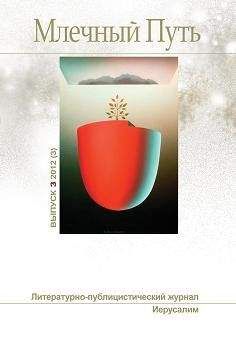Никто не заметил моих полетов и моего одиночества: все были заняты своими делами. Под Джея Хокинса на ресторанной веранде извивалась в причудливом танце парочка малолеток, улыбался, сияя белоснежными зубами, бармен, молодящиеся американки утоляли жажду крепкими напитками, дремал в кресле бородач с дымящейся трубкой, пепел сыпался ему на волосатую грудь. Мир праздных людей навалился на меня. Но никто не заметил, как изменился я. И это было прекрасно. Пусть шутку никто не оценил, хватит и того, что оценил ее я. Шутка вышла чудо как хороша, мозги мне прочистила.
Все мы, родившиеся, живущие и умершие, избранники Бога. Глубокое осознание того, что ты не мог не родиться, что все то, что живет и дышит вокруг тебя, это тоже часть тебя, — все это вдруг наполнило меня покоем и тихой печалью. Мне уже было не страшно умереть. Я понял, какая мне выпала удача — родиться. Моя жизнь — это дар Божий, аванс, который мне отпустили, еще не зная, кто из меня вылупится, святой или мерзавец. Слова истрепанные, но если ты пришел к ним сам, путем долгих мучительных размышлений наедине со своей душой, значит, ты постиг одну из ипостасей истины.
Умирать, конечно, не хочется. Но когда придет печальная минута расставания, хорошо бы к этому мгновению проникнуться оптимистичной мыслью о том, что все-таки тебе несказанно повезло, и некогда тебе была дарована жизнь. Что ты был извлечен из небытия, что ты выиграл по жребию у кого-то, от кого это везение отвернулось, кому не повезло родиться, а ты прожил-таки какую-никакую жизнь, в которой кроме напастей, болезней и переживаний было немало счастливых часов, полных довольства и любви.
Прежде все было глухо во мне, все намертво закрыто на все застежки; ни луч света, ни потрясения, ни сострадания, ни любовь, ни восторги — ничто не проникало внутрь, ничто! Душа моя, как душа Кощея, прохлаждалась где-то за горами, за долами.
Почему у человека, еще вчера взвешивавшего за прилавком колбасу или считавшего чужие деньги в банке, вдруг возникает желание покорить Северный полюс, завоевать сердце поп-звезды, поджечь свой дом или отравить соседа крысиным ядом?
Какова здесь роль среды, воспитания и еще чего-то, придуманного социологами и психоаналитиками? Два моих сокурсника, дети почтенных и благонамеренных родителей, не буду называть их имен, однажды под покровом ночи проникли в актовый зал института, спустили люстру, накакали в нее и подняли снова. Кстати, оба в дальнейшем сделали успешную карьеру. Сейчас они известные в научном мире ученые и какают, наверно, там, где положено. Другой мой сокурсник, Мишка Андреев, также сын почтенных родителей, после успешной сдачи летней сессии, на радостях в аллеях «Эрмитажа» пустой водочной бутылкой крушил уличные фонари. Ныне он уважаемый университетский профессор, без пяти минут академик и автор монографий по истории каких-то западноевропейских литератур.
Я не утверждаю, что гадить в хрустальные люстры и колотить фонари — хорошо, а двигать вперед науку — плохо. Я просто хочу напомнить, что говорил Набоков о том, что лежит в основе формирования личности. Наследственность, среда и некое «Х». Так вот, говорил Набоков, во всей этой триаде среда играет второстепенную роль. А вот наследственность и это загадочное «Х»…
Если выкинуть из триады еще и наследственность, то останется загадочное «Х». Что это такое?..
Может, все коренится в человеке? В той неизведанной его части, что находится в сердце?
Вдруг, ни к селу ни к городу, в голове возникла странная, чудовищная мысль: я протыкал чужие сердца, в то время как о своем сердце надо было печься, ведь, наверно, там и хоронится это чертово «Х». Что изменилось во мне? Что пробудило во мне человеческие чувства, совесть, наконец? Видно, было что-то изначально. Таинственное ли это Нечто из набоковского триединства — не знаю и теперь уж, наверно, никогда не узнаю.
Я устало вздохнул. Мне надоели рассуждения о смыслах, природе и мотивах поступков.
Аня и Илюша были живы, здоровы и счастливы. Все остальное не имело значения. Впереди была жизнь. До конца было еще очень и очень далеко, и самое сложное и трудное только начиналось.
Меня не покидало ощущение незавершенности чего-то, что можно назвать жизнью. Но жизнь известно, чем завершается. Несмотря на болезненную склонность беспрестанно держать в голове мысли о смерти, что-то заставляло меня цепляться за жизнь. Жизнь не роман и не сказка. У нее, даже в случае моей смерти, нет конца, она продлится, пока горяча Земля и пока светит Солнце.
Мне сорок пять. Или чуть-чуть больше. Написан, так сказать, первый том, то есть прожита первая половина жизни.
Вторая — вряд ли будет лучше первой. Уничтожить себя, как уничтожил Гоголь второй том «Мертвых душ»? Чтобы никто не узнал, чем дело-то кончилось? Что ж, дело хорошее. Только надо придумать, как это проделать пострашней. Что может предложить нам жестокая история? Смерть от удушья, яд, быстро пожирающий внутренности, смерть на костре, в петле, в омуте. Хорошие смерти, надежные, добротные, мучительные. Это как раз то, что я заслужил. Но этого мало. Надо еще что-то. Более изуверское.
Эпилог
Глубокой ночью я вышел из дому. Моя цель — Млечный Путь. Я спустился к морю. На пляже ни души. Море манило к себе. У меня словно за спиной выросли крылья. Легкий ветер овевал лицо. Не раздеваясь, я вошел в воду.
Опять надо мной чернело чистое ночное небо. Мириады сверкающих, перемигивающихся звезд и звездочек. Луна вся в тусклом серебре, покойная и печальная.
Ночной отлив все дальше уносил меня в море. К утру вольюсь в мировой океан. Вольюсь и растворюсь. Жизнь обретала смысл. Жизнь переливалась в смерть. Смерть — в бессмертие.
Необходимые бумаги я подготовил. По достижении зрелости Илюша станет богат как Крёз. Впрочем, сейчас мне не до финансовых тонкостей: у меня на уме была моя жизнь, моя смерть и мое бессмертие. А Илюша преспокойно обойдется без своего безалаберного, эгоистичного и легкомысленного отца. Вряд ли он станет допытываться, откуда у его покойного папаши было столько денег. Уже через неделю я улетучусь из его памяти навсегда. Дети забывчивы. Они не помнят и не почитают своих отцов. По себе знаю.
Я чувствовал себя частью чего-то огромного, непостижимого, вечного. Я почти не прилагал никаких усилий, море работало за меня, волны подхватывали и уносили меня все дальше и дальше от берега. Я перевернулся и лег на спину. Увидел над верхушкой волны, как мелькнул и погас последний огонек на берегу, на верхнем этаже отеля, я остался наедине с самим собой и с чем-то, что неудержимо входило в меня.
В эти мгновения я любил все, что меня окружало. Звезды, небо, луну. Я почувствовал себя неизбывной частью вселенной. Я был морем. Я был небом. Я был соленым ветром, я растворялся в вечности, как когда-то во Флоренции, где много лет назад я едва не влюбился в девушку, дарившую мне за деньги свою любовь. Скоро я стану мерцающей звездочкой и закреплюсь на небосводе в виде нового космического объекта. Через год меня откроет очкастый астрофизик из Пулковской обсерватории и даст мне какое-то имя. Поскольку мне посчастливилось родиться под знаком Девы, скорее всего, мне просто присвоят номер.
Море было теплым, приветливым, обманчивым, опасным и ласковым. Хорошо в такой воде вены резать. Умирать будет легко и приятно. Но у меня с собой не было ни одного остро режущего предмета.
Одежда, намокнув, сковывала движения. Надо освободиться от нее. Не то пойду ко дну до того, как успею всласть напитаться радостями общения с вечностью. Снять рубашку было легко, труднее было с носками, и я едва не захлебнулся. Туфли я снял раньше, еще на берегу. Начал стягивать брюки, и тут что-то острое впилось мне в ладонь, я увидел в лунном свете, как вода вокруг меня окрасилась темным. Кровь. Прорвав мягкую и тонкую брючную ткань, из кармана на свет божий вылез подарок Илюши. Я ухватился зубами за край треугольного камня, поранил уголок губы, но не выпустил камня изо рта. Освободившимися руками стащил с себя брюки. Держаться на воде стало легче. Кровь из пораненной ладони продолжала сочиться. Боли я не чувствовал, но неожиданно появился страх, я знаю, что акулы чуют кровь в воде за много миль.