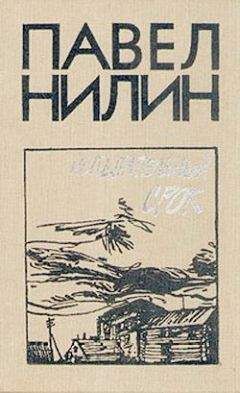Строгость, вероятно, останавливает и страшит в первую очередь слабодушных, но слабодушные, как известно, революций не замышляют и сознательно в волнениях не участвуют.
Хотя, конечно, волнения, разрастаясь, могут вобрать— и обычно вбирают — в свою орбиту и тех, кто первоначально не думал и не предполагал в них участвовать.
Бурденко, как, пожалуй, многие молодые люди почти всех слоев российского общества, вступавшие в жизнь в то теперь далекие годы, был проникнут пусть еще смутным, пусть до конца не осознанным, но уже неистребимым чувством недовольства общественным строем.
Укрепляясь, это чувство у одних людей — далеко не у всех — постепенно приобретало силу убеждения в необходимости разрушить, сокрушить этот строй, чудовищно -бюрократический, несправедливый, при котором заведомо неумные сановники, «толпою жадною стоящие у тропа», имеют смелость вопреки духу времени, действовать вместо самого народа. И это в то время, как лучшие дети его, лучшие граждане, способные при других обстоятельствах оказать ценнейшие услуги своему отечеству, своему государству, гибнут на каторге, прозябают в ссылке.
Правда, гибли и прозябали они уже не первое десятилетие.
Первых ссыльных пригнали сюда, в Сибирь, еще в XVII веке, на полстолетия раньше, чем доставили в кандалах первых каторжан. И уже тогда некто Виннус, голландец, промышлявший в Москве в качестве переводчика и советника, подал государю драгоценную мысль, что «можно всяких воров и бусурманских полонянников сажать для гребли в цепях, чтобы не разбегались и зла не учиняли. И чем,— развивал он свою мысль,— таким ворам и полонянникам, которых по тюрьмам бывает много, втуне провиант давать, и они бы на каторге хлеб зарабатывали».
Особенно эта идея поправилась и пригодилась потом Петру Первому, стремившемуся ускорить развитие отечественной экономики, развернувшему большое строительство при постоянном недостатке вольнонаемных рабочих рук.
«...Ныне зело нужда есть, дабы несколько тысяч воров приготовить к будущему лету, которых по всем приказам, ратушам и городам собрать по первому пути»,— давал указание этот государь князю Ромодановскому 23 сентября 1703 года.
Ворами, как известно, именовались в те времена преступники всех «видов». И их, оказывается, нетрудно было приготовить, то есть осудить в большем или меньшем числе в зависимости от потребностей в даровых рабочих руках. А потребность такая зело возрастала не только в центре России, но и на ее все новых и новых окраинах и в Сибири.
И гнали и гнали в одну только Сибирь сотни, тысячи, десятки тысяч воров, мошенников, картежников, разбойников и даже табачников, то есть жевавших, нюхавших или куривших табак, что строжайше при некоторых государях преследовалось. Закон, выражая неоспоримую мудрость государей, повелевал сечь кнутом уличенных в курении, вырывать им ноздри и высылать в отдаленные места, куда направлялись в первую очередь и государственные преступники, «имевшие любопытство и пристрастие к не дозволенной начальством политике,— смутьяны, горюны и горлопаны»,— как было сказано в одном старинном документе, попавшем на глаза студенту Бурденко.
В свободные часы он по-прежнему интересовался историей Сибири, историей каторги и ссылки, привыкший смолоду пристально вглядываться, вчитываться, вдумываться во все, с чем приходилось сталкиваться.
Томск в те годы уже не часто служил местом ссылки. Чаще здесь оседали политические и чаще всего интеллигенты, уже отбывшие каторгу или ссылку в более глухих и дальних сибирских селениях, но не получившие позволения на возврат в родные места. Под неослабевающим надзором полиции они работали агрономами и врачами, педагогами и статистиками, инженерами и даже мелкими чиновниками в разных учреждениях и организациях, иногда ими же созданных, вроде Общества попечения о начальном образовании или Общества содействия физическому развитию.
Не гнушались некоторые политические работать и в частных домах. Особенно в домах легендарно богатого сибирского купечества. Кто-то заметил, что, подобно тому, как российская аристократия стремилась в начале XIX века приобрести для своих детей в качестве гувернера англичанина или француза, так в конце того же века в Сибири состоятельные люди поручали воспитание своих потомков ссыльным революционерам, нередко воспитанным французами же в аристократических, дворянских семействах.
Не было в Сибири сколько-нибудь серьезно мыслящего человека, который бы не сочувствовал политическим ссыльным, не хотел бы им помочь. Или, напротив, не хотел бы воспользоваться их помощью. Ведь чаще всего это были хорошо, отлично образованные люди, знавшие много ремесел, умевшие организовать культурно-просветительное дело и вложившие в него в сибирских условиях много инициативы, энергии и любви.
Бурденко встречал таких людей и в библиотеках и в редакциях газет, куда изредка приносил свои заметки. Пользовался их советами, например, по поводу того, что читать. И несколько раз не без опаски брал у них для чтения некоторые нелегальные брошюры.
Чтение это не увлекало его и даже не полностью разъяснило разницу между политическими течениями, порождавшими рознь и порой ожесточенную вражду между ссыльными. Да и не хватало времени у студента Бурденко разобраться досконально во всех тонкостях политической борьбы. Приближались экзамены. И в препараторской хватало работы.
Все-таки он прочел зимой среди прочих одну сравнительно толстую, полученную под строжайшим секретом книгу — «Сибирь» Георга Кеннана, изданную в Берлине в 1891 году Зигфридом Кронбахом в не очень грамотном переводе докторов Генриха Руэ и Александра Вольфа и неведомо какими тайными путями попавшую в Сибирь, в Томск. Эта книга как бы открыла перед молодым человеком железом окованные тяжелые двери сибирских тюрем.
Особенно тронула его описанная здесь печальнейшая история Нифонта Долгополова, студента-медика, который, закончив медицинское образование, был накануне своего последнего экзамена, когда в Харькове произошли студенческие волнения. Университетские власти призвали на помощь войска. Нифонт Долгополов не был ни революционером, ни сочувствующим революционерам. Он только увидел, проходя близ университета, как казаки хлещут нагайками его коллег-студентов.
— Стыдитесь!— закричал казакам Долгополов.— Ведь это низко и бесчестно бить беззащитных людей нагайками!
И больше ничего не успел прокричать Долгополов.
Полицейские схватили его как зачинщика беспорядков и отвезли в тюрьму.
Через несколько месяцев без суда и следствия он был отправлен в Сибирь, чтобы пройти через множество страданий.
В книге Кеннана это была, однако, не самая скорбная история. Но Бурденко больше других поразила именно эта и потому, наверно, что Нифонт Долгополов тоже был студентом. И не просто студентом, а студентом-медиком. И даже хирургом.
В Сибири, на поселении, Нифонт Долгополов попал в прямую зависимость от необыкновенно злобного исправника Ильина, запрещавшего ему лечить и даже общаться с местным населением.
Некто Балахин нечаянно ранил свою мать из охотничьего ружья. Рана была опасна. Надо было немедленно удалить пулю. Прибежали за помощью к Долгополову. Он произвел операцию, хотя тем самым, оказывается, нарушил параграф 27 Положения о полицейском надзоре.
Взбешенный исправник донес об этом губернатору.
Опять без суда и следствия Нифонта Долгополова отвезли в тюрьму, где он заболел тифом.
Население, благодарное доктору за помощь, которую он оказывал тайно и бесплатно, передавало ему в тюрьму цветы и еду.
Эти демонстрации любви к обездоленному человеку окончательно вывели из себя Ильина. Он обратился к губернатору с просьбой перевести Долгополова в другую часть Тобольской губернии, где за ним можно будет учредить более строгий и более надежный надзор.
И вот по распоряжению губернатора, при непосредственном участии исправника вынесли больного Долгополова в одной рубашке на октябрьский холод, уложили в телегу и повезли по тряской дороге, по обледеневшим буеракам в Ишим...
Все это прочел Бурденко как раз в момент студенческих волнений. И, как это бывает с людьми живого и сильного воображения, все это невольно прикинул на себе: ведь и с ним могло случиться подобное. И никто бы, наверно, не защитил его, как не защитили же талантливого Нифонта.
Волнения в Томском университете развивались сперва очень медленно, исподволь. Поводом к ним послужили события, происшедшие за несколько тысяч верст от Томска, в императорском Санкт-Петербургском университете, где, по слухам, «полиция и казаки вмешались в студенческие дела»,— ворвались в аудитории во время студенческой сходки и применили уже давно испытанное средство решения интеллектуальных споров — нагайки. Словом, все было так или почти так, как в Харькове перед последним экзаменом Нифонта Долгополова.