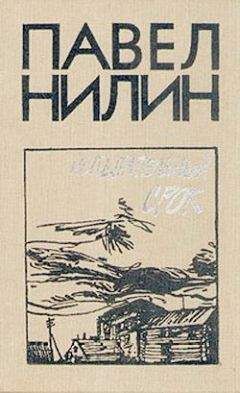В Томский университет, правда, ни казаков, ни полиции пока не вызывали, хотя занятия вдруг прекратились и на кафедрах вместо профессоров уже который день выступали ораторы из студентов.
Бурденко в этом не участвовал. И не из каких-нибудь особых соображений, а потому, что в эти дни в препараторской готовили препараты не только для университета, но выполняли большой и очень срочный заказ, в котором Бурденко, как и его товарищи по работе, был заинтересован материально. Вот когда он мог послать домой впервые не десятку и не полторы, а может быть, даже сотню рублей... Надо было только поскорее закончить заказ на препараты, поступивший сразу из двух городов — Барнаула и Красноярска. Работали и днем и ночью. Вздохнуть, как говорится, было некогда. И все-таки урывками Бурденко дочитывал эту книгу «Сибирь», несколько раз перечитав историю Нифонта Долгополова.
Об одном он жалел, что ни с кем нельзя было поделиться размышлениями об этой истории: ведь книга считалась запретной. Ее даже нельзя было оставлять в общежитии, где почти каждый день теперь производился негласный досмотр в сундучках и под матрасами «на предмет поиска чего-либо несоответствующего», как выражался смотритель общежития, неофициально служивший, наверно, не только в университете.
Бурденко делал препараты и все думал о Нифонте, как думал бы об очень близком человеке, о друге, о брате или о самом себе.
А наверху, на втором этаже, кипели страсти. Все больше студентов втягивалось в дискуссии о том, имеет или по имеет права полиция вмешиваться в университетские дела.
Были и такие осторожные высказывания, что при известных условиях, пожалуй, необходимо, чтобы полиция «принимала меры». Недопустимо-де только, чтобы ей помогали казаки.
Ораторов с такими убеждениями тотчас же сгоняли, стаскивали с трибуны. Одному надавали тумаков. Страсти кипели со все нарастающей силой. И высказывания приобретали все более резкий характер. Были даже требования к правительству дать гарантии, что оно никогда не только не прибегнет к силе, но никогда не будет вмешиваться в университетскую жизнь.
— Это уж черт знает что! Можно подумать, что у нас тут по меньшей мере Франция. А все это влияние социал-демократов,— возмущался один приват-доцент, зашедший в препараторскую. И он же вдруг как бы укорил Бурденко: — А вы, коллега, почему не присутствовали на сходке? У вас, что же, особые взгляды?
В самом деле, получалось, пожалуй, нехорошо: все студенчество так или иначе выражает свою солидарность, а оп, Бурденко, «за» или «против»?
Жить в обществе и быть свободным от общества, конечно, нельзя.
Это скажет позднее великий человек, чье имя Бурденко, как все мы, услышит почти через два десятилетия. И тогда же это имя прозвучит на весь мир.
А пока, вот в эти дни студенческих волнений, в самом конце девятнадцатого столетия, человек этот, чье имя — Ульянов-Ленин — в полицейских реляциях упоминалось часто с прибавкой «брат казненного», отбывал последний год сибирской ссылки в селе Шушенском. В этой прибавке к его имени, к его фамилии отражено было, наверно, не только желание усугубить его вину, но и, может быть, даже удивление полицейских перед человеком, который, невзирая на страшную судьбу своего родного брата, все-таки не отказался от небезопасной идеи изменить этот мир.
Полицейским же, естественно, мир представлялся незыблемым.
Ведь еще не выплавлен был металл для пушки, которой предназначено было выстрелить с крейсера «Аврора» по Зимнему дворцу. Еще не построен был и крейсер «Аврора». Еще в Зимнем дворце помещалось не Временное правительство, а «божией милостью государь-император и самодержец Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский и прочая и прочая», чья власть представлялась большинству его подданных не временной, а вечной и единственно возможной. И студент Бурденко, как и многие его коллеги, еще уверен был, что государь не знает всех безобразий и несправедливостей, творящихся в богом данной его империи и, в частности, вот здесь, в Сибири, где за здорово живешь, без суда и следствия могут ни с того ни с сего погубить, сгноить, искалечить любого человека.
Бурденко задумался над словами приват-доцента, в самом деле вроде укорившего его. Все, мол, студенты шумят наверху, чего-то добиваются, а он, Бурденко, почему-то в стороне. Наверно, это нехорошо, неправильно.
Бурденко, однако, не бросил тотчас же работу. И после ухода приват-доцента еще больше часа спокойно проработал над препаратами. Некоторые сухие, как всегда, тщательно прикрепил проволочками к полированным дощечкам. Другие поставил сушиться.
Затем снял фартук и халат, умылся тут же в тазу, надел форменную тужурку и неторопливо пошел наверх, на второй этаж, где даже в коридорах было шумно и сильно накурено, чего раньше никогда не бывало: студенты никогда не курили в коридорах.
Бурденко прошел в большую аудиторию, что направо от главного входа. Было слышно, как там громко смеются и аплодируют. И из аудитории, что совсем странно, тоже тянуло табачным дымом.
— Нилыч! Нилыч пришел! На кафедру его! Слушаем тебя, Нилыч! — заревело несколько голосов.
В реве этом можно было уловить и доброе товарищество, и иронию, и насмешку, и то, что издавна называется «подначкой».
А дальше все развивалось с неожиданной и как бы катастрофичной быстротой.
Бурденко потом не мог восстановить всей последовательности, с какой он оказался на кафедре, и заговорил, как бывало на уроках гомилетики, но на этот раз не о пожарах и не о пьянстве, а об ужасах произвола. И сам испытал почти что ужас, увидав в дверях в середине своей речи инспектора Григоровского, который всегда внушал ему некоторую оторопь.
Бурденко все-таки продолжал говорить о беззащитности в нашей великой державе любого человека, кто бы он ни был — студент, крестьянин или рабочий. И видел, как инспектор, стоя на одной ноге и приподняв колено, записывал на нем что-то в толстую тетрадь. Интересно, что же он записывает? Может быть, вот эту речь студента Бурденко? Но Бурденко уже не мог остановиться. Вдруг он даже закричал:
— Коллеги, во имя борьбы за благородное дело справедливости мы все должны объединиться! За нас сенаторы и министры. За нас все честные люди. За нас весь наш многострадальный народ. Главное — быть убежденным, коллеги. И нас ничто не сможет сломить...
В аудиторию в этот момент вошел, втиснулся ассистент профессора Салищева. Явно взволнованный, он кого-то разыскивал глазами. Увидев Бурденко на кафедре, заметно удивился и стал пробиваться к нему сквозь плотную толпу. Пробился и спросил:
— Вы, оказывается, коллега, я сейчас узнал, тоже назначены в тюрьму?
— Почему это? — обиделся Бурденко, спускаясь с возвышения.
— Господа, не расходитесь! — закричали у дверей.— Инспектор господин Григоровский пришел переписать наши головы. Дайте ему такую возможность. Не расходитесь, пожалуйста! Проявите мужество. Дайте инспектору возможность выслужиться перед полицией.
Вокруг Бурденко захохотали. Он оглянулся в недоумении.
— Меня запишите. Меня! — кричали инспектору вокруг.
— Разве с вами не говорили, Нилыч, что вы пойдете в тюрьму с профессором Салищевым? — спросил ассистент и полистал блокнот.— Должны еще пойти Семенов и Савичев. Или вы раздумали в связи с этим шумом? — Ассистент презрительно огляделся.
— Нет, я ничего не слышал. Мне никто ничего не говорил,— пожал плечами Бурденко.
— А профессор Салищев вас ждет...
Бурденко стал энергично пробиваться в коридор, все еще не очень понимая, зачем профессор Салищев пойдет в тюрьму и почему его, Бурденко, включили в компанию таких старшекурсников, как Семенов и Савичев.
Пока он пробивался в коридор, ему со всех сторон пожимали руку незнакомые студенты. Наконец в коридоре на него навалился, как медведь, Павел Иванович Мамаев, «вечный студент», уже не очень молодой, грузный, успевший побывать и в Юрьевском и в Варшавском университетах. Он мял в своих потных ладонях руку Бурденко и кричал, что он рад, очень рад был выслушать эту страстную речь, эти подлинно пламенные, от самого сердца идущие слова.
— А я, коллега, грешен, считал вас просто академистом, этаким субъективным юношей-субъективистом, словом, не от мира сего. А вы наш, истинно наш! Хотя и есть в вас еще некоторая, извините, субъективность. Зачем только, не понимаю, вам потребовалась эта окрошечная примесь из сенаторов и министров? Но все равно вы наш, от плоти, так сказать, костей. Наш...
«Чей ваш?» — хотел спросить Бурденко, несколько раздражаясь. Ведь где-то его ждал профессор Салищев.
Ассистент делал ему уже издали какие-то знаки. Надо идти. А Мамаев, пахнущий табаком и жирной пищей, продолжал восторженно рычать и удерживать Бурденко почти что в объятиях.
Из-за спины Мамаева Бурденко увидел, как в тумане, за двойными застекленными дверями взъерошенную голову ректора Судакова, того самого, который, казалось, совсем недавно прислал ему так обрадовавшую его телеграмму: «Пенза Пески дом № 7 Бурденко Испытанию допущены Приезжайте 20 августа Ректор Судаков».